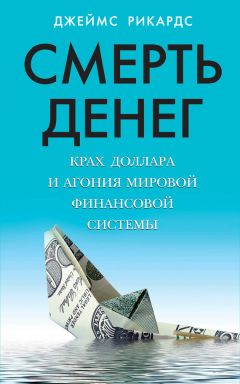За крайними домами поселка сразу посветлело от раскинувшихся по обеим сторонам дороги снежных полей. Сейчас на них не видно было ни брошенной сельхозтехники, ни проталин с нищенскими подмосковными суглинками, ни мусора и ржавого железа вдоль обочин. Тучи разошлись, в прогалах выступили редкие звезды.
С асфальта свернули на бетонку. Справа потянулся березовый колок с чахлыми, как на болоте, деревцами. Про деньги не заговаривали, но мысль о них заставляла Катю невольно убыстрять шаги. Их окружала пугающая тишина, не хотелось нарушить ее ни звуком, ни словом. Даже хруст подмерзших лужиц под ногами тревогой отдавал в сердце, а Жохов болтал без умолку. Сейчас он рассказывал, что, согласно «Бардо Тходол», промежуток между смертью и новым рождением длится ровно сорок девять дней, это не случайная цифра. В Тибете и Монголии ламы удаляются от мира как минимум на тот же срок, и современные психологи считают, что за меньший период никакими тренингами невозможно перестроить свое сознание, но задача существенно упрощается, если в полном одиночестве, как Катя, живешь среди этих полей, под этим небом, при одном взгляде на которое вся московская суета отодвигается куда-то далеко-далеко, в область кармических иллюзий, где ей, собственно, и место.
«Бардо Тходол», она же «Тибетская книга мертвых», теперь свободно продавалась в магазинах, а совсем недавно была дефицитом почище Булгакова и Мандельштама. Жохову она досталась в слепой машинописной копии на папиросной бумаге, хотя стоила как подарочное издание. Слова с трудом складывались из неверных, как тени на зимнем закате, бледных букв, зато, не в пример Гене и Марику с их Солженицыным, он уже тогда стал понимать, что сознание иллюзорности этого мира дает силы мириться с его несовершенством. Царь смерти не видит тех, кто сознает свою призрачность.
Он начал объяснять, как важно увидеть Ясный Свет в первый день после смерти и стремиться к нему, не обманываясь другими огнями, более красивыми и яркими. Нужно узнать его, как в сказках крестьянская девушка узнает переодетого принца в толпе разряженных придворных. Там все будет иллюминовано легионом звезд, морем огней, но не надо думать, будто у бедного больше шансов различить Ясный Свет, чем у богатого. Буддисты считают, что человек должен что-то иметь, чтобы потом отдать, отдающий получает преимущество перед не имевшим, причем отданное ценится по номиналу, а не по субъективной ценности. Нищий, отдавший другому нищему последний кусок хлеба, оказывается в положении менее выгодном, чем раджа, который раздал голодающим хотя бы часть запасов риса из своих амбаров. В радикальном варианте даже голодающие не обязательны, рис можно просто сжечь, результат будет тот же.
Катя думала о своем. Жохов понял это, услышав, что в случае чего ей хватило бы характера выстрелить из настоящего пистолета, характер у нее довольно сильный. Он спросил, в чем это выражается.
– Вот один пример, – сказала она. – После седьмого класса я поехала в пионерский лагерь и взяла с собой новое платье. Соседка привезла его из Венгрии, а мама у нее для меня купила. Такое голубенькое, с двумя аппликациями в виде букетика цветов – слева на груди и справа на подоле. По тем временам – шик неимоверный, но оно у меня до конца смены пролежало в чемодане. Другие девочки все свои наряды использовали в первые же дни, а я надела это платье только в последний вечер перед отъездом.
– Почему?
– Хотела, чтобы меня запомнили именно в нем.
– Да, – признал Жохов, – сила воли прямо нечеловеческая.
Пару раз их обгоняли машины, вдруг одна резко затормозила сзади, в полудесятке шагов. Катя оглянулась. В лучах фар к ним кинулись трое мужчин. Свет бил им в спину, лица казались темными. Жохов бросил сумку и метнулся от них вдоль дороги. В панике он даже не попытался нырнуть в березняк, так и бежал по прямой, как заяц, попавший в луч прожектора.
Расстояние было слишком мало, чтобы ему дали уйти. Передний на бегу вытянул руку, но хватать не стал, напротив – с профессиональной сноровкой еще и толкнул в спину, припечатав между лопаток открытой ладонью. Ноги не поспели за внезапно рванувшимся вперед телом. На заплетающихся ногах Жохов пробежал еще несколько шагов, сознавая, что сейчас упадет, и упал. Сзади истошно завизжала Катя.
Через секунду навалились вдвоем, лицом вдавили в мерзлый бетон, заломили руку. Один пригнул голову вниз, другой оседлал сверху. Орудуя поясницей, Жохов попробовал сбросить его с себя и получил ребром ладони по затылку. Второй сказал:
– Еще и подмахивает, блядина!
Третий подоспел позже. В захвате он не участвовал, стоял сбоку, не подавая голоса. С земли Жохов видел только его ботинки и низ джинсов с ровной фабричной махрой.
Тех двоих он тоже не разглядел, но мгновенно понял, кто они и что им нужно. Обычная практика – расплатиться, забрать товар, а после вернуть назад свои деньги. Караулили, значит, во дворе у Марика. С ними был кто-то четвертый. Он добирался туда сам, чтобы не показываться на глаза Гене. Адрес Гена сказал им уже в машине, поэтому и зарулили на заправку. Кто-то из них вышел, позвонил этому кадру и сообщил, куда ехать. Он дежурил у подъезда, потом, пользуясь тем, что Жохов не знает его в лицо, спокойно вошел вслед за ними в метро, доехал до вокзала, подслушал или спросил в кассе, до какой станции Катя взяла билеты, и по телефону связался с Денисом. На такой машине обогнать электричку по пустынному ночному шоссе – это им запросто. Они ждали его здесь, просто дали отойти подальше от домов.
Все это пронеслось вереницей сменяющих друг друга видений. Слов не было, в глазах стояла тьма с радужными проблесками от удара лбом о бетон. Лежа плашмя, придавленный сверху, Жохов грудью чувствовал во внутреннем кармане куртки пачку из сорока двух стодолларовых бумажек. Расстаться с ними было все равно что умереть.
Он никогда не плакал от горя, только от умиления, восторга и каких-то сложных сочетаний того и другого – например, если в телевизоре показывали уходящих на фронт солдат и мужской хор пел «Вставай, страна огромная», – но сейчас, когда дернули за ворот и поставили на ноги, лицо было в слезах.
36Анкудинова привезли в Москву в декабре 1653 года. Прямо с дороги его повели в застенок, но ни кнут, ни каленое железо, ни жестокие встряски на дыбе не смогли вырвать у него признание в том, что он – беглый подьячий Тимошка Анкудинов, а не князь Иван Шуйский. Современники допускали четыре причины этого поразительного упорства.
Первая: он мог надеяться, что его сочтут одержимым бесами и не казнят, а отправят в монастырь.
Вторая: ни малейшей надежды остаться в живых у него не было, он заботился о своей посмертной славе, твердостью показаний желая укрепить иностранных государей в том о себе мнении, какое сумел им внушить.
Третья: он понимал, что избежать адского пламени все равно не удастся, но думал, что лучше уж и в аду быть среди первых, чем идти за уряд, как случилось бы при его раскаянии.
Наконец, четвертая: душа, которую он объявил своей, не вполне чужда была его телу.
Под пыткой Анкудинов рассказал, как ребенком жил в Вологде, на владычнем дворе, и архиепископ Варлаам неизменно дивился его уму, называл отроком «княжеского рождения» и «царевой палатой», отчего у него «в мысль вложилося», что настоящим его родителем был какой-то князь или боярин. Вскорости ангел Господень открыл ему, от чьего семени он рожден, и велел послужить царю и великому государю, но изменники государевы сговорились извести его, князя Шуйского, своей изменой, потому он и поехал в соседние государства.
К вечеру Анкудинов стал заговариваться, но пытки прекратили не раньше, чем он впал в беспамятство. Наутро палачам позволили отдохнуть и начали уличать его с помощью свидетелей.
Первым привели Григория Пескова, в прошлом тоже подьячего Новой Четверти. К нему накануне побега Анкудинов отвел сына и дочь. Песков признал бывшего сослуживца, а тот его – нет. Потом перед ним поставили уже взрослого сына. Последний раз он видел своих детей десять лет назад, в то время дочери шел четвертый год, и она его забыла, зато сын узнал отца с одного взгляда. Анкудинов на это заявил, что хотел бы иметь в сыновьях такого славного паробка, но Бог не дал ему потомства. Прочих людишек, когда-то знавших его и пытавшихся напомнить об их знакомстве, он не удостоил ни словом.
После всех ввели его мать Соломониду. Год назад она второй раз овдовела, постриглась в монахини под именем Степаниды и была в иноческом платье. Днем раньше ее привезли в Москву из Вологды.
Увидев распростертое на полу тело с вывихнутыми руками, страшно истерзанное, окровавленное, покрытое свежими язвами от пытошного огня, несчастная застыла соляным столбом. Все в ней окаменело, даже глаза остались сухи.
Ей дали время посмотреть на него, но близко к нему не подпустили. Стали спрашивать: «Это твой сын? Это твой сын?»