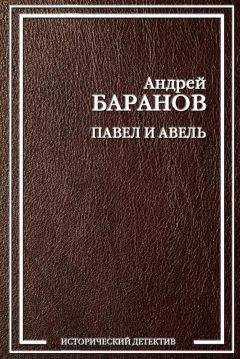– Не разговаривать! Молчать, сукин кот! В карету его, быстро!
Пророка, демонстративно звенящего тяжелыми кандалами, так и не снятыми с него для пущей сохранности, засунули в мрачную темно-коричневую повозку с глухими зарешеченными окошечками. Конвой из прапорщиков и унтер-офицеров поскакали по бокам, а бойкая троица охотников за предсказаниями уселась рядом с монахом. Находиться в обществе бывшего коновала было нелегко – видимо личная гигиена в казематах еще не поднялась на угодный императору Павлу высокий европейский уровень. Всю дорогу до столицы монах говорил, не переставая – девица Лесистратова только успевала записывать в изящный блокнот его сбивчивые речи.
– Всю жизнь мою страдал за слово божие и за правду! Пиши, девка, пиши, смотри не сбейся…
– Не собьюсь! – заверила его Лизонька. – Ты только сказывай…
– За правду! Принял я постриг на Валааме, скитался в страшной пустоши… был мне глас божий, и на небо меня возносили аки апостола Павла… Меня, грешного – и на небо! Две книги там видел, все в них открыто аки в святцах… А здесь в каземат заточили! Сукины дети, свиньи бескорытные… Настоятель Бабаевского монастыря меня за записи мои тайные к епископу отвел… А епископ Костромской и Галицкий преосвященный Павел по лбу мне посохом бил и бранные слова всякие лаял, чуть до смерти не убил… Черные попы, хотели чтоб забыл я реченное мне Господом, да где там! Владимирский и Костромской генерал-губернатор генерал-поручик Заборовский, пес подзаборный, по морде дал и в острог посадил… А оттуда в Петербурх поволокли, в Тайную вашу экспедицию, будь она трижды неладна! Там Сашка Макаров, пустая башка, строчил с меня листы допросные, да я все ему рассказал, без утайки…А граф Самойлов, генерал от прокуроров ваших постылых, по лицу меня бил перстами с перстнями, кровь текла из меня аки из борова зарезанного… Вот что я потерпел за слово божие!
– А что ж было там, в сих тетрадях? – Лизонька была настойчива. Граф Г., которому князь Куракин дал проглядеть только кусочек заветных тетрадок, оставив, правда, в полное его распоряжение допросные листы арестанта, тоже не прочь был узнать о судьбах империи поподробнее. Морозявкин, которому впервые довелось соприкоснуться с живым пророком и прорицателем, также сгорал от любопытства. Однако оному не суждено было получить полного удовлетворения.
– А вот что мне на небесах узреть довелось, то там и было! Все записал, что не забыл… Я за голосом божьим записывал вот как вы сейчас за мной… Хоть и грамоте я мало разумею, а сподобился.
– Однако же там был указан день и час смерти всемилостивейшей нашей императрицы, государыни Екатерины?
– Да, ведомы мне и царские секреты, но много лет боялся я сказать правду о гласе небесном Ея Величеству… А как прознала она про то, так в Шлиссельбург меня и заточила! Хотел же я как лучше… А как вышло – сами видите.
– Ну да что мы все о грустном! – граф Михайло Г. решил утешить приунывшего плотника и коновала, а ныне монаха и арестанта. – Вот уже и заря… Новое солнце завтра взойдет, новый день, авось увидишь и светлейшего князя, может и обласкает он тебя… если все ему поверишь откровенно!
– Да уж, обласкает! Меня все вишь вон как ласкают – плетьми да острогом! Собачья у нас, провидцев божиих, жизнь… Хоть и плотничать нелегко, и женили меня супротив воли, а все же лучше с нелюбимой женой век вековать, чем вот так по тюрьмам скитаться… – сказавши это, Василий отвернулся к окну и более не проронил ни слова до самой столицы.
В доме князя Куракина арестанта ласково приютили, обогрели и накормили на кухне, даже не забыв предварительно расковать. Оголодавший пророк ел щи так, что за ушами трещало. Дворня и слуги почтительно наблюдали за нм издали, толпясь у дверей кухмистерской, ибо, неведомо как, слух о нем просочился по всем щелям огромного княжеского дворца. «Святой… юродивый… монах… да какое там, бунтовщик, крестьянский сын… новый Стенька Разин…» – эти слова перешептывали из уст в уста, прожужжав друг другу все уши. Атмосфера тайны продергивала всех как мороз. После бани выспавшийся пророк должен был предстать перед князем. На ночь граф Г. снова читал допросные листы мрачного монаха.
Вопрос. Для чего и с каким намерением и где писал ты найденные у тебя пять тетрадей или книгу, состоящую из оных?
Ответ. В каком смысле писал книгу, на сие говорю откровенно, что ежели что-нибудь в рассуждении сего солгу, то да накажет меня всемилостивейшая наша Государыня Екатерина Алексеевна, как ей угодно; а причины, по коим писал я оную, представляю следующие: 1) уже тому девять лет как принуждала меня совесть всегда и непрестанно об оном гласе сказать Ея Величеству и их высочествам, чему хотя много противился, но не могши то преодолеть, начал помышлять, как бы мне дойти к Ея Величеству Екатерине II, 2) указом велено меня не выпускать из монастыря и 3) ежели мне так идти просто к Государыне, то никак неможно к ней дойти, почему я вздумал написать те тетради и первые две сочинил в Бабаевском монастыре в десять дней, а последние три в пустыни.
Вопрос. Написав сказанные тетради, показывал ли ты их кому-либо? И что с тобою после воспоследовало за них?
Ответ. Показывал я их одному из братии, именем Аркадию, который о сем тотчас известил строителя и братию. Строитель представил меня с тетрадями моими сперва в консисторию, а потом к епископу Павлу, а сей последний отослал меня и с книгою в наместническое правление, а из него в острог, куда приехали ко мне сам губернатор и наместник и спрашивали о роде моем и проч., а когда я им сказал: «ваше высокопревосходительство, я с вами говорить не могу, потому что косноязычен, но дайте мне бумаги, я вам все напишу», то они, просьбы моей не выполня, послали сюда в Петербург, где ныне содержусь в оковах. Признаюсь по чистой совести, что совершенно по безумию такую сочинил книгу, и надлежит меня за сие дело предать смертной казни и тело мое сжечь.Утром князь Александр Куракин всемилостивейше соизволил принять бывшего арестанта Шлиссельбургской крепости в своем кабинете. Роскошь обстановки и любезность светлейшего должны были произвести на узника неизгладимое впечатление. Золоченые мебеля и стены с портретами царственных особ подавляли практически всякого.
– Подойди-ка сюда, любезный! Да не бойся, ближе!
– Ваше сиятельство, Александра Борисович! Уж так я вам благодарен, не знаю как и выразить чувства мои! Спасли вы меня от злодея Самойлова, спаситель вы мой, многия вам лета, благодетель и заступник…
– Да нет, любезный братец Василий, или как тебя там кличут – отец Адам что ли? Не спас пока, сие не моя воля, а воля высшая, монаршия! И зависит твое освобождение из тюрьмы токмо от тебя самого. Может быть уже завтра соизволит говорить с тобой сам государь наш Павел Петрович. Ежели расскажешь ему все без утайки – помилует, а нет – не взыщи… Можешь и всю жизнь в Шлиссельбурге просидеть, прокуковать.
– Ах, если бы государь повелел бы мне отделиться от черных попов и жить в мирских селениях, где я пожелаю! Только постриг прежде хочу вновь принять – в Костроме расстригли меня, злыдни поповские. Тогда бы я благодетелю все без утайки рассказал бы…
– Государь наш милостив, но справедлив. Готовься, Василий, вспоминай, что тебе господь говорил. А пока что… – тут князь Куракин несколько замешкался, не решаясь сказать о своем интересе совсем уж откровенно, – пока что не раскрыл бы ты нам завесу будущего?
– Никак невозможно, ваше сиятельство! О судьбе царской фамилии и самого государства российского я, раб божий Василий, могу лишь царской особе поведать, – заявил отец Адам и дерзко отвернулся к ближайшей стене. Князь вздохнул, поднялся и прошелся по зале взад и вперед.
– Ну что ж… похвальное усердие, братец. А если не о судьбе всей России, а так сказать об отдельных ее людях? Скажем, о моей судьбе? В империи я не последний человек – вице-канцлер и императору друг… Расскажи, что будет со мною? Ведомо ли тебе сие?
– Так ведь не провидец я, то что свыше мне голос в уши шепчет – то и реку, – монах-расстрига вновь повернулся к князю и как будто даже повеселел. – Это тебе, батюшка-князь, к гадалкам надобно! Да и иногда такое открыться может, что и узнать ты не захочешь…
– Не захочу? – князь откинулся в кресле, слегка пожевал тонкими губами. – Да ведь говорят, что от судьбы не уйдешь… Так что там меня ждет?
Монах устроился на стуле поусадистей и закатил глаза, как бы всматриваясь в грядущие года. Несколько секунд он шевелил пальцами, будто запоминая рисунок на ткани времен, а затем изрек:
– Будешь ты богат, знаменит и всеми царями обласкан… Женат не будешь никогда. Но детей у тебя станет без счета. Проживешь на свете шесть десятков лет и еще шесть… только бойся огня! А то, твое сиятельство, тебя пожгут, ножками затопчут и фамилии не спросят… Впрочем, сохранит тебя твоя любовь к дорогой одеже с каменьями. Закутаешься в нее и спасешься, но берегись огненного петуха-ха-ха!