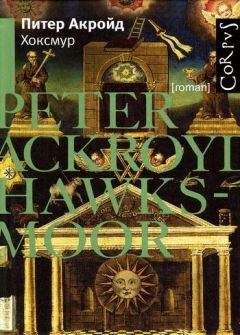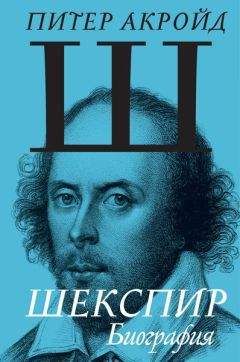Дом теперь сделался столь тих, что стражник, окликнувши и не услыхавши в нутри никакого шума, призвал мертвецкую телегу, и звук его голоса разом пробудил меня от забытья. Была опасность, что меня найдут с мертвыми и тогда (таков был заведенный порядок) заключат в тюрьму, потому я начал оглядываться вокруг, ища путей побега. Хоть я был на вышине третьего этажа, но под окном имелись большие сараи (располагалось окно с задней стороны дома, выходившей на Монмоут-стрит), и я с быстротою молнии спустился таким образом наземь; о провизии я не подумал, не имел даже и соломинки, на какую мог бы прилечь. Теперь стоял я в грязи и тишине, света нигде не было, не считая тех фонарей, что установили подле трупов, дабы осветить путь мертвецким телегам. И тут, повернувши за угол Блек-игль-стрита, увидал я при мерцающем свете фонаря собственных своих родителей, лежавших там, где положил их стражник; лица их блестели от грязи. Я уж было закричал в страхе, но тотчас напомнил себе, что сам я жив и эти мертвыя существа никоим образом повредить мне не способны; и тогда, стараясь держаться невидимым (ибо столь темной ночью разглядеть и в самом деле было возможно немногое), я принялся дожидаться, покуда телега совершит свой скорбный путь.
Оба существа помещены были на груду трупов, покрытых лохмотьями и раздутых, словно клубок червей, и звонарь с двумя фонарщиками повезли телегу вдоль по Блек-игль-стриту, мимо Корбетс-каурта и по Бронес-лену; я следовал за ними по пятам и слышал, как они веселятся, читая свои Господи помилуй нас, Никто не устоит пред тобою и Горе вам, смеющиеся ныне: пияны они были до крайней степени, и колея их была столь крива, что они едва ли не скидывали трупы у дверей домов. Но тут они выехали в Спиттль-фильдс, и я, бежавший рядом с ними в изумленьи не то в горячке (что сие было, мне неизвестно), внезапно увидал огромную яму почти у самых ног моих; я резко остановился, заглянул в нутрь ея и тут, качаясь на самом крае, испытал внезапное желание кинуться вниз. Но в сей момент телега подошла к яме, ее развернули, чему сопутствовало немалое веселие, и тела сброшены были во Тьму. Плакать я тогда не умел, зато нынче умею строить, и намерен соорудить на сем памятном месте лабиринт, где мертвые вновь обретут голос.
Всю ту ночь бродил я по открытым полям, порою давая волю страстям своим, пускаясь в громкое пение, порою погружен в раздумья самыя ужасныя: куда я попал? Я ума не мог приложить, что мне теперь делать, очутившись в огромном мире без всякой опоры. В собственный свой дом возвращаться я не намеревался, да сие и не представлялось возможным: я вскоре разузнал, что его сломали вместе с несколькими протчими поблизости, столь омерзителен был воздух у них в нутри; таким образом, я принужден был отправиться странствовать, вновь проникнувшись былым духом блуждания. Теперь, однакожь, сделался я осмотрительнее, нежели в прежния времена: сказывали (и, помню, родители мои говорили), будто бы до мора видали в народе Демонов в человечьем обличьи, которые поражали всякого, кто им встретится, и те, которых поразили они, становились сами охвачены недугом; даже и в тех, кому довелось видеть подобных призраков (звавшихся полыми людьми[11]), произошли сильныя перемены. Как бы то ни было, таковы были расхожие слухи; теперь я полагаю, что сии полые люди происходили от всех тех выделений и испарений людской крови, кои поднимались от города, подобно всеобщему стону. И стоит ли удивляться тому, что улицы стояли изрядно опустошенными; повсюду на земле лежали тела, от которых исходил запах, да такой, что я убегал, дабы уловить носом ветер, и даже те, которые живы оставались, были ни дать ни взять ходячие трупы, дышавшие смертью и друг на дружку взиравшие со страхом. Живы еще? да Еще не померли? — таковы были их обычные вопросы друг к дружке. Попадались, однакожь, и такие, которые ходили в оцепененьи, так что им дела не было до того, куда путь держат, а также и другие, оглашавшие воздух обезьяньим шумом. Были между ими и дети, чьи пени умирающего разжалобить могли; вирши их и по сие время отзываются эхом в закоулках и углах города:
Тихо! Тихо! Тихо! Тихо!
Все мы в яму валимся.
Вот так и был я посредством множества знаков научен тому, что жизнь человеческая твердого направления не имеет — управляет нами Тот, Кто, подобно мальчишке, тычет перстом в самую внутренность паутины и разрывает ее, нимало не задумавшись.
Вздумай я задерживаться на своих разнообразных приключениях в бытность улишным мальчишкою, сие утомило бы читателя, для того я не стану более о них рассказывать до поры. Теперь же возвращаюсь к своим размышлениям, происходящим от сих событий, и к моим рассуждениям о слабости и причудливости жизни человеческой. После того, как Чума утихла, чернь вновь стала радоваться своими карнавалами, церковными процессиями, плясками вокруг майского шеста, элем на Троицын день, предсказаниями судьбы, ярмарочными представлениями, лоттереями, полночными гуляньями и непристойными балладами; я же, однако, был из иного теста. Я оглядывался вокруг себя и проникал умом в то, что произошло, не давая сему миновать, подобно сну больного или же сцене, лишенной повествования. Я видел, что весь мир есть лишь огромный перечень бренных дел и что Демоны, быть может, разгуливают по улицам, тогда как люди (многие из оных на пороге смерти) предаются разгулу: я видел мух на сей навозной куче, именуемой землею, а после рассуждал о том, кто же их Повелитель.
Но вот уж распускается плетенье Времени, ночь прошла, и я возвратился в контору, где Вальтер Пайн стоит сбоку от меня, постукивая башмаком об пол. Долго ли просидел я тут, погруженный в воспоминанья?
Я размышлял о мертвых, сказал я поспешно, Вальтер же на сии слова отворотил от меня лицо и якобы принялся искать свое правильце — не любит он слушать моих рассуждений о подобных вещах, так что я, дождавшись, пока он усядется, переменил свой предмет: пыли здесь, как на верхушке стряпухина шкапа, вскричал я, Вы поглядите на мой палец!
Тут ничего не поделаешь, говорит он, ведь пыль, ежели ее убрать, тотчас опять возвращается.
Теперь я расположен был к веселию в разговоре с ним: стало быть, пыль, то бишь, прах, спросил я его, бессмертен, и мы можем видеть, как он летит по ветру через века? Но коль скоро Вальтер ответа не давал, я вновь принялся шутить с ним, дабы развеять его меланхолическое настроенье: что же есть прах, мастер Пайн?
А он поразмышлял немного: несомненно, что частицы материи.
Так, значит, все мы суть прах, не правда ль?
Он же притворным голосом пробормотал: ибо прах ты, и в прах возвратишься,[12] а за сим состроил кислую мину, но тем лишь сильнее рассмешил меня.
Я подошел к нему и положил руки на плечи ему, от чего он несколько задрожал. Успокойтесь, говорю, у меня хорошия новости имеются.
Что же за новости?
Теперь я с Вами согласен, отвечал я. Я расположу гробницу чуть поодаль от Спиттль-фильдской церкви. Притом ради Вас, Вальтер, не по совету сэра Христ., но единственно ради Вас. И позвольте сообщить Вам тайну (тут он склонил голову): строить ее мы будем большею частию под землей.
Я об этом мечтал, сказал он. Более он не разговаривал и держался ко мне спиною, занимаясь своими трудами; правда, довольно скоро, когда он склонился над своими листами, услыхал я его негромкое насвистывание.
Нам надлежит поторапливаться, окликнул я его, беря перо и чернила, ибо церковь должно построить сим же годом.
А годы сменяются куда как быстро, прибавляет Вальтер, и вот уж он исчез, а я возвратился во времена Напасти, когда отправился странствовать средь множества ходячих остовов, источающих отраву. Поначалу меня словно бы швыряло то кверху, то книзу от злокозненных происшествий Фортуны, я сделался добычей игры случая, покуда однажды ночью не отыскал нить в своем лабиринте трудностей. Стояла последняя неделя Июля, около девяти часов вечера, я проходил мимо шляпной лавки близь Таверны Трех бочонков на Редкросс-стрите. Ночь была лунная, однако Луна, находясь позади домов, сияла лишь косыми лучами, и небольшой поток света ея исходил из маленькой улочки, одной из тех, что шли поперек дороги. Я приостановился, дабы взглянуть на сей свет, как тут из улочки вышел худощавый человек, высокой и недурной собою, одетый в бархатный камзол, перевязь и черный плащ; с ним вместе выступали две женщины, у коих вокруг нижней части лица повязаны были белые льняные платки (с тем, чтобы оберечь их носы от чумных запахов). Мущина шел споро, спутницы же его силились за ним поспевать, и тут, к невыразимому моему изумленью, он указал на меня (одетого в рваный плащ и разбитые башмаки): вот она, рука, яснее не бывает, говорит он, видите ли вы ее над самою его головою? Возбудившись до крайности, он стал меня звать: мальчик! Мальчик! Поди сюда ко мне! Поди сюда ко мне! Тут одна из женщин сказала: не приближайтесь к нему, ибо откуда Вам знать, нет ли у него Чумы? На что он отвечал: не бойтесь его. А я в ответ на сии слова подошел к ним поближе.