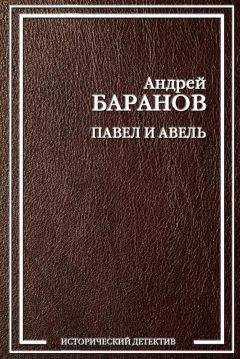Покинув дворец, граф Г. поначалу не знал, куда возвращаться. Он весьма опасался гнева князя Куракина, однако поразмыслив все же приказал везти себя на Невский проспект, к знакомому дому. Морозявкин был уже там, но даже запах крепчайшего корабельного голландского табака, которым провоняла вся комната, не избавил графа Михайлу от тяжких мыслей. Вольдемар уже приготовился было влить в приятеля полштофа водки, дабы его взбодрить, однако же тут во дворец прикатил из Гатчины припозднившийся князь, и вызвал его к себе. Граф поднялся наверх, в княжеские покои, ожидая бури, но вновь ошибся – Александр Борисович был на удивление весел.
– Уж не знаю, что ты там наговорил государю, голубчик, но ты его развеселил, а сие давно никому не удавалось. Небось наплел ему всякой чуши, что тебе привиделась – дескать я открыл черным братьям где лежит книжка пророка и все такое прочее? Сознавайся!
– Несмотря на все мое почтение, что питаю я к вам как к другу нашей семьи и моему покровителю, коего я безмерно уважаю… – начал было граф, но князь нетерпеливо перебил его.
– Понимаю, «Платон мне друг, но истина дороже!» Ну вот что, давай раз и навсегда забудем о сей истории. Мне, старику, неприятно о ней вспоминать, я тебя люблю, да и Павлу Петровичу ты пришелся по нраву. А посему иди почивать, и примерять награды.
Граф вышел из княжеского кабинета ступая легкими ногами, и до утра уже не вспоминал ни о награждениях, ни о доносах, ни даже о монаршией милости и прелестях баронессы Ольги. Совесть его была чиста, душа спокойна, а сны безмятежны.
Обещанный графом Морозявкину веселый пир состоялся. Ресторан был на французский манер, таковые только начали появляться в северной столице, открываемые эмигрировавшими от революционных бурь гражданами Французской Республики. Блестящие молодые люди любили бывать в этих заведениях, и граф Г. с Морозявкиным и разумеется примкнувшей к ним мамзель Лесистратовой с удовольствием последовали их примеру.
– А ресторация-то пожалуй парижской не уступит! – тут тебе и вина с ликерами, и коньяки… Благодать! – отметил Морозявкин, откидываясь на стуле.
– Ты, дружочек, не налегай особенно – посоветовал граф, и сам откушавший на пару с приятелем сочного жаркого и макарон не хуже итальянских.
– И тут приличная публика – вон и офицеры такие красавчики, и иностранные кавалеры… – мечтательно протянула Лизонька, отведав бифштекса и запив его токаем. – В питерских кофейнях полно необразованной публики самого низшего сорта, а здесь просто таки бон-тон!
– Попрошу не обижать наши кабаки! – заступился за знакомых Вольдемар. – В питейных домах хоть такой обслуги и нету, но зато заморских напитков море разливанное!
– Вам теперь неуместно ходить в такие места, сударь – как кавалер ордена святой Анны вы можете в будущем рассчитывать и на дворянский чин, – пояснила Лесистратова.
– А вот ходил и ходить буду! – Морозявкин единым духом осушил целый стакан киршвассера – вишневого бренди. – Тут крепких напитков найти трудно, да и орденок этот из простых, им всех сейчас награждают направо и налево.
– Исправно служите отечеству, и титулов прибавится! – это нравоучение Лизы растворилось в звоне бокалов.
Граф после пирушки вызвался проводить Лесистратову до дому, но история умалчивает, что было между ними далее, известно лишь только что он был весьма опечален изменой баронессы Ольги как своему мужу, что было разумеется неважно, так и ему самому, и этого простить было нельзя. И хотя адьюльтер был с персонажем почти мистическим, менее горько от этого не становилось.
Лизонька как могла старалась его утешить, особенно когда их карета проезжала через Поцелуев мост. Перекинутый через Мойку, этот мост на каменных опорах служил всем влюбленных, коим приходилось встречаться или же прощаться, местом романтических свиданий. Тогда утешения стали особенно бурными, и продолжались до самого гнездышка и даже возможно далее.
Время для героев катилось весьма быстро, даже и вне европейских столиц. Через год с небольшим князь Александр Куракин попал в опалу, как и было обещано. Будучи уволен от службы, он разумеется уехал в свое имение, и вернулся в Санкт-Петербург лишь на освящение Михайловского замка в 1801 году, когда вновь стал занимать прежнюю свою должность вице-канцлера.
Граф Г. покинул Петербург еще ранее, возвратившись к себе в деревню, хотя и часто наведывался в стольный город, повздыхать о баронессе Ольге, навестить друзей и разумеется мамзель Лесистратову, которая хоть и желала всей душой соединить судьбу с графом и зажить как помещица, но не могла покинуть милую ее сердцу службу в Тайной экспедиции. Впрочем поговаривают что она сделала большой скачок в карьере, и стала перекладывать с места на место бумажки уже в Гатчинском дворце.
Месье Морозявкин продолжал вести тот же самый образ жизни, что и ранее, то есть давал уроки всего на свете, от французского языка и математики до гадания и фехтования, репетиторствовал у дочерей богатых дам, и распускал слухи что он на короткой ноге с самим вице-канцлером, которому будто бы оказывал неоценимые услуги, при случае намекал и на то что вхож в монаршьи покои.
Однажды его уж было хотели посадить за это на съезжую, но тут почему-то за него заступились в Тайной экспедиции, и будто бы сам генерал-прокурор повелел этого гуся пока что не трогать, ибо может еще пригодиться. Мало поверив сим словам, полицейские все же отступились, и Вольдемар продолжал беспрепятственно пить в кабаках в Адмиралтейских частях, в Литейной части, в Московской части, в Каретной и Рождественской частях, словом повсюду где только имелись трактиры.
Судьба же пророка Авеля, бывшего в миру Василием, сыном Васильевым, в очередной раз сделала резкий поворот. Соскучившись по жизни светской, Авель совершил самовольную отлучку в Москву, и разумеется с помощью своих пророчеств немедля набил карман монетой. Однако же сие занятие было ему запрещено, и в 1798 году он вновь очутился в Валаамском монастыре что на Ладожском озере, в ссылке.
После сего события настоятель монастыря Назарий в связи с покражами из кельи одного иеромонаха серебряных ложек и турецких денег учинил их розыск, и Авель все похищенное вернул, уверяя что вещи к нему подкинуты, и во сне он разведал, кто истинный похититель. Но игумен Назарий, дивясь почему якобы больной пророк не желает ходить на послушания с братией, не поленился лично зайти к нему в келью и обнаружил там в придачу к вполне здоровому Авелю еще одну книгу или же тетрадь предсказаний, написанную провидцем здесь же.
Тетрадь была немедля послана в Санкт-Петербург, к Амвросию, митрополиту Петербургскому, который в свою очередь сообщил об этом генерал-прокурору Обольянинову. А уж генерал впоследствии отписал «Высочаше повелено: послать нарочнаго, который привез бы в Петербург, по приезде же посадить в каземат, за крепчайший караул, в крепости. Мая 21 дня 1800 года. Павловск». Таким образом, крестьянин Василий, ставши пророком Авелем, снова оказался в заточении.
Надобно отметить, что Авель вовсе не стремился поделиться с монахами или же с царедворцами обретенным с небес знанием, напротив, он даже угрожал «убить до смерти» настоятеля, если тот осмелится взять книгу, « писанную языком неизвестным», и говорил что де эту книжицу ему дали просто почитать.
Но и попав со своей книгой в руки сильных мира сего, Авель не нашел понимания. После рандеву с митрополитом тот отписал генерал-прокурору что-де «Из разговора же я ничего достойнаго внимания не нашел, кроме открывающегося в нем помешательства в уме, ханжества и разсказов о своих тайновидениях, от которых пустынники даже в страх приходят. Впрочем Бог весть». Следователи же Тайной экспедиции отмечали, что враки пророка ничего не значат и он ищет лишь собственной выгоды.
Между тем у пророчеств все же нашелся один благодарный читатель – сам Павел I. Однако же благодарность императоров – вещь своеобразная, впрочем требовать особой любви за предсказание безвременной гибели не приходилось. Прочитав новые откровения Василия, в которых говорилось о том, что жить Павлу столько лет, сколько букв в надписи над воротами Михайловского замка, построенного вместо церкви, государь был весьма расстроен. Новым местом жизни пророка вновь стала крепость, а предсказание однако же сбылось.
Дело в том, что сей замок возводился по замыслу Павла «для постоянного государева проживания» как «новый неприступный дворец-замок», и велено было «строить с поспешанием», то есть и днем и ночью, освещая стройку фонарями и факелами. Тут же все обросло самыми жуткими легендами – дескать часовому в сновидении привиделось, что архангел Михаил приказывал построить себе храм, а Павел вместо него отстроил хоромы для личного пользования, нарушив указание свыше, вот почему и кончил государь зело худо.