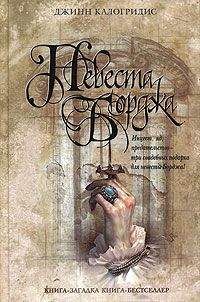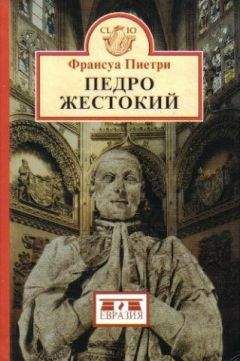Альфонсо очень осторожно притворил ставни и повернулся ко мне; это движение выдало разгорающийся в нем гнев, столь необычный для него. Я знала, что его спровоцировало мое замечание, и вместе с тем понимала, что я не единственная причина его гнева.
— Это сделала не она. Она сопротивлялась разводу, сколько могла, и до сих пор стыдится его. Ее принудил отец.
— И тем не менее она делает так, как ей велят. — Альфонсо держался с несвойственной ему холодностью.
— Не будь в этом так уверена. Мы любим друг друга, Санча. Отец слишком долго дурно обращался с Лукрецией, и ее верность по отношению к нему поколеблена. Но она знает, что я никогда не причиню ей вреда и никогда не предам ее.
— Я могу лишь надеяться на то, что ты прав. Но были люди, о чьей судьбе я не смею говорить…
Я думала о Перотто, о Пантсилее и прежде всего о Хуане, которого не спасли и кровные узы. Альфонсо вспыхнул.
— Я не желаю слушать подобных речей. Лукреция — моя жена. Она не способна ни на какую жестокость.
— Я люблю Лукрецию как сестру и подругу, — примирительно произнесла я. — И ни в чем ее не обвиняю. Но Чезаре…— Я понизила голос. — Если он решит объединить папскую армию с французской…
Гнев Альфонсо угас, сменившись мрачностью.
— Я знаю. Отныне нам следует быть очень осторожными. Наверняка появятся соглядатаи. Нам нельзя будет говорить свободно, даже при наших собственных слугах, и придется хорошенько обдумывать все, что мы пишем. — Он помолчал. — Я встречусь частным образом с испанским и неаполитанским послами. Есть несколько кардиналов, которые тесно связаны с Испанией и с Неаполем, которым можно доверять и к которым Папа прислушивается.
Альфонсо заставил себя подбадривающе улыбнуться.
— Не волнуйся, Санча. Дело еще не окончено, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы предотвратить этот брак. Я попрошу Лукрецию поговорить с отцом; она способна повлиять на него, как никто.
— Лукреция! — воскликнула я. — Альфонсо, не смей говорить с ней об этом!
Он посмотрел на меня со смесью боли и негодования.
— Я говорю с Лукрецией обо всем, — просто сказал он. — Она — моя жизнь, моя душа. Я ничего не могу скрывать от нее.
Отчаяние окутало меня, словно тьма.
— Братик, пойми же! Лукреция всегда будет предана прежде всего своей семье. — Альфонсо открыл было рот, собираясь возразить, но я вскинула руку, призывая к молчанию. — Это совсем не говорит о слабости ее характера, даже напротив — говорит о силе. Признайся, Альфонсо, кому ты предан прежде всего: дому Борджа или Арагонскому дому?
Альфонсо вздохнул.
— Ты права, сестра. Я буду осторожен в разговорах с женой. Ну а пока что поверь: я употреблю все свое влияние, чтобы помешать этому французскому браку.
Я пыталась верить. Альфонсо сделал все, что обещал, и представители испанского и неаполитанского королевств предупредили Папу об ужасных последствиях, к которым должен был привести брак Чезаре с родственницей Людовика. Казалось, что Александр прислушался к ним.
Но как-то утром в середине мая, когда мы с Лукрецией сидели на наших бархатных подушках, церемониймейстер объявил о появлении посетителя. Посланец Чезаре, дон Гарсия, только что соскочил с коня, за четыре дня прискакав в Рим из Блуа.
Он привез вести для его святейшества, счастливые вести, как сообщил паж, однако он просит Папу о снисхождении, ибо буквально засыпает на ходу и едва держится на ногах. Если ему дозволят, он передохнет несколько часов и все расскажет.
Но Александр, вне себя от возбуждения, не желал и слышать об отсрочке. Он отослал просителей, вызвал Джофре и Альфонсо и велел, чтобы изможденного гонца провели в тронный зал. Джофре и Альфонсо прибыли, а следом за ними — и дон Гарсия; он тяжело опирался на слугу, поскольку не мог идти без посторонней помощи.
— Ваше святейшество, прошу меня простить, — произнес Гарсия. — Я должен сообщить вам, что ваш сын, Чезаре Борджа, герцог Валенсийский, четыре дня как женат на Шарлотте д'Альбре, принцессе Наваррской. Их брак был засвидетельствован самим королем Людовиком.
Я слушала его, окаменев. Александр в восторге захлопал в ладоши. Позднее я узнала, что он еще несколько месяцев назад помог решить судьбу этого брака, даровав брату Шарлотты кардинальскую шапку, хотя и делал вид, будто прислушивается к испанцам и неаполитанцам.
— Наконец-то! — Папа посмотрел на усталого, шатающегося гонца и приказал: — Принесите кресло! Дон Гарсия, я дарую вам дозволение сидеть в моем присутствии — на все то время, что вы будете рассказывать мне о свадьбе. И не пропускайте ни одной подробности!
Кресло принесли. Гарсия неохотно опустился в него и, подгоняемый вопросами Папы, монотонно вел рассказ в течение полных семи часов. Через несколько часов для рассказчика и слушателей принесли еду и питье. Я сидела и слушала, и чем сильнее сиял Александр, тем больший ужас охватывал меня.
Я узнала, как Чезаре и его невеста — «очень красивая, белокожая и светловолосая», если верить Гарсия, — обменялись кольцами во время торжественной церемонии. Чезаре, стремясь продемонстрировать свою мужественность, осуществил брачные отношения шесть раз в присутствии короля Людовика, который восхитился и назвал Чезаре лучшим мужчиной, чем он сам. На последовавшем за этим празднестве присутствовало столько высокопоставленных гостей, включая короля Людовика со свитой, что для всех не хватило места и пришлось переносить празднество на луг.
Папа просто-таки упивался союзом, заключенным Чезаре. Он потчевал каждого посетителя, являющегося в Ватикан, рассказом о свадьбе Чезаре, заставлял рассматривать груды драгоценностей, которые он намеревался послать в дар своей новой невестке, и подносил каждый камень к свету, чтобы посетитель мог им полюбоваться.
Нам с Альфонсо оставалось лишь пытаться уменьшить нанесенный ущерб. Асканио Сфорца, один из кардиналов, чьей помощью заручился Альфонсо, попытался осторожно прозондировать почву во время беседы о церковных делах. Кардинал Сфорца сказал его святейшеству, что ему не верится, что Людовик действительно намеревается напасть на Неаполь, ведь королева Анна и ее родня против этого. Кроме того, Франция уже получила урок, когда король Карл потерпел поражение и вынужден был отступить.
Папа рассмеялся прямо в лицо кардиналу. Пусть король Федерико побережется, сказал он с ухмылкой, а то, как бы с ним не случилось то же самое, что с моим отцом, который верил, что французы никогда до него не доберутся, а потом удрал, едва лишь их армия появилась под воротами Неаполя.
Услышав об этом, я потеряла всякую надежду, хотя Альфонсо продолжал втайне предпринимать какие-то усилия. Я позлорадствовала, узнав, что парижские студенты устроили комическое представление, пародирующее свадьбу Чезаре: римские представления о пышности французы считали пошлыми и вульгарными. Подкованный серебряными подковами конь Чезаре стал для них настоящим посмешищем.
Джофре наконец-то осознал, что я больше не пользуюсь благорасположением его святейшества, и решил, что для него лучше всего будет засвидетельствовать, что он — настоящий Борджа, и вести себя подобно братьям. Напившись пьян, он шлялся по ночным улицам в компании испанских солдат и размахивал мечом, пытаясь подражать Хуану, — но из Джофре с его мягким характером так и не вышло настоящего драчуна.
Он продолжал эти выходки, хотя я и умоляла его остановиться. Наверное, мое беспокойство придавало ему мужественности в собственных глазах. Я не могу его обвинять, ведь он хотел помочь мне; и, возможно, если бы он завоевал такую же репутацию, как братья, отец и вправду стал бы прислушиваться к нему. Но ему этого не удалось, а потому он и не мог расположить его святейшество ко мне.
Но он мог, по крайней мере, вести себя как Борджа. Несомненно, именно это он и собирался предпринять в ту ночь, когда я проснулась от крика под дверью спальни.
— Донна Санча! Донна Санча!
Я села на кровати и схватилась за бешено бьющееся сердце; какой-то мужской голос вырвал меня из глубокого сна. Рядом со мной тут же проснулась донна Эсмеральда. Послышались испуганные возгласы других фрейлин.
— Кто там? — властно спросила я, выпутываясь из одеяла, пока одна из дам поспешно зажигала свечу.
— Это Федерико, сержант испанской гвардии, один из людей вашего мужа. Дон Джофре серьезно ранен. Мы отнесли его к нему в спальню и послали за врачом. Мы подумали, что надо сообщить вам об этом.
— Серьезно? Насколько серьезно? — спросила я, не сдержав страха.
Набросив бархатный плащ, я выбежала в прихожую, где стоял Федерико с фонарем в руках. Это был молодой гвардеец лет восемнадцати, смуглый, словно мавр, одетый сейчас в гражданское; волосы прилипли к вспотевшему лбу. Нижняя половина его камзола свисала, распоротая ударом меча, который лишь по счастливой случайности не добрался до тела. Сквозь зияющую дыру виднелся живот и верх штанов. Черные глаза блестели от избытка вина.