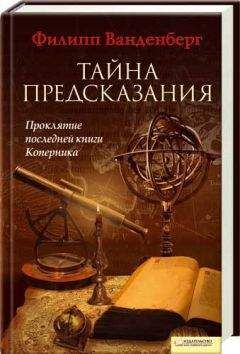Услышав это, Леберехт бросил работу и поспешил на Мачелло деи Корви, на ходу подбирая нужные для серьезного разговора слова. Он выбрал короткий путь и подошел со стороны Виа Бенедетти. Когда же при звоне вечерних колоколов он достиг своей цели, то увидел у дома Микеланджело большую толпу народа.
По обе стороны от входа в дом горели факелы; коленопреклоненные женщины стояли на ступенях и плакали. Очень быстро площадь заполнилась людьми, так что едва можно было протиснуться.
С большими усилиями Леберехту удалось пробиться к входу в дом. Оттуда вышел крупный бородатый мужчина в длинной черной мантии и треугольном берете, изобличавшем в нем врача. Он прикрепил на дверях написанную от руки бумагу и тут же исчез. Леберехт прочитал хорошо сложенные строки витиеватого почерка флорентийца:
Сегодня вечером
на девяностом году своего земного существования
отошел в лучший мир
достославный
мессер Микеланджело Буонарроти,
поистине чудо природы.
И поскольку мы обслуживали его вместе с другими докторами,
в числе коих был превосходный медик Федериго Донати,
то смогли оценить его редкие добродетели.
Итак, довожу до сведения последнюю волю мессера, а именно:
похоронить его во Флоренции, где останки величайшего человека,
которого только рождал мир,
должны покоиться вечно.
Рим, 18 февраля, год Спасения нашего 1564
Джерардо Фиделиссими из Пистойи,
милостью и щедростью его превосходительства
герцога Флоренции
доктор медицины
Буквы поплыли перед глазами Леберехта. На мгновение ему показалось, что Земля и впрямь остановилась. Из верхних окон квадратной башни пробивался бледный свет. Плакальщицы, приближавшиеся с улицы, по которой он пришел, жалостливо причитали, и все больше людей вторили их плачу. Вскоре на Мачелло деи Корви стало так тесно, что Леберехт предпочел удалиться из этой толчеи.
С того дня, когда умер его отец, которого он любил и чтил, ни одна смерть так не тронула Леберехта. И хотя он даже словом не обменялся с Микеланджело, флорентиец был для него идолом, чем-то вроде духовного отца. Слова доктора Фиделиссими о том, что Микеланджело был величайшим человеком, которого когда-либо рождал мир, для Леберехта не были преувеличением. Теперь он упрекал себя за то, что раньше не сделал попытки поговорить с мастером.
Погруженный в скорбь, Леберехт вернулся домой. Там он обнаружил вторую неожиданность этого богатого событиями дня, правда, на этот раз — более приятную: брат Лютгер на своем пути из Монтекассино сделал остановку в Риме.
Хотя на душе у него было очень скверно, Леберехт не мог удержаться от вопроса:
— Ну что, брат Лютгер, вручили вы свою святую крайнюю плоть?
Лютгер поднял палец.
— Надо с большей серьезностью относиться к реликвиям Святой Матери Церкви! В противном случае тебе грозит значительная церковная кара!
— Хорошо, господин великий инквизитор!
Они обнялись, и Леберехт сообщил о смерти великого Микеланджело. Однако, как ему показалось, эта новость не особенно тронула бенедиктинца.
Марта подала вино, и Лютгер рассказал о своих впечатлениях от монастыря Монтекассино, который имел такие невообразимые размеры, что возникала опасность заблудиться там, как в лесу. И в самом деле, никто, даже аббат, не мог сказать, сколько келий, комнат и залов было скрыто в его стенах, потому что каждая попытка подсчетов до сих пор давала разные результаты. Привычно воздавая должное вину, монах во всех подробностях поведал о том, как мизинец левой стопы святого Бенедикта, покоящегося в стеклянной раке, был изъят, оправлен в золото и зашит в его сутану, заняв место крайней плоти Господа нашего Христа.
Марта испуганно посмотрела на облачение бенедиктинца, а затем перевела взгляд на Леберехта, который, похоже, в мыслях был где-то очень далеко. Лютгер, слишком хорошо знавший молодого человека, конечно, заметил отсутствующее выражение его лица, а потому осведомился:
— Ты довольно близко к сердцу принял смерть мессера Микеланджело?
Леберехт кивнул.
— Но меня волнует не только его смерть, — признался он. — Однако сейчас мне не хочется об этом говорить.
Марта поняла намек и под каким-то предлогом покинула комнату.
Некоторое время монах и его ученик молча сидели, разглядывая друг друга. Наконец Леберехт, глубоко вдохнув, начал:
— Вы знаете об открытии Николая Коперника, которое он изложил в книге "De astro minante"?
— Разумеется. И время это неумолимо приближается. — Лютгер перекрестился. — Порой я спрашиваю себя, а имеет ли земная жизнь вообще какой-нибудь смысл?
— Вы говорите именно так, как того опасаются в курии, — заметил Леберехт и добавил: — Если, конечно, исследования Коперника вдруг станут известны.
— И что в этом удивительного? Допустим, я не могу больше верить Церкви, курии и Папе. Ну и ладно, в конце концов, они — люди. Но если я не могу больше верить Писанию, то во что же мне, доброму христианину, верить? Хорошо еще, что почти никто об этом не знает.
— Несколько дней назад я тоже так думал, но потом внезапно сделал ужасное открытие, которое заставляет меня предположить, что знание о близком конце света широко распространено между посвященными.
— Это невозможно. Тайна, вероятно, известна паре бенедиктинцев, горстке астрономов. Sapienti sat.[83] Но рассказывай!
Леберехт сделал большой глоток, словно хотел прибавить себе мужества. Он склонился к Лютгеру, который, полный любопытства, по-прежнему сидел напротив него, и тихо спросил:
— Скажите честно, сочли бы вы возможным то, что Микеланджело Буонарроти, упокой Господи его душу, знал о прорицании?
— Микеланджело? Насколько мне известно, он был скульптором, художником, архитектором и поэтом, но не занимался ни астрологией, ни теологией. Откуда ему иметь представление о таких вещах?
Слова наставника, из которых явствовало, что он не слишком высоко оценивал труды Микеланджело, возмутили Леберехта и заставили его горячо выступить в защиту мастера.
— Вы сильно недооцениваете Микеланджело, брат Лютгер. Он был не просто каким-то художником, который писал какие-то картины, ваял какие-то статуи, строил какие-то церкви и писал какие-то стихи. Он был величайшим из всех. Он писал, как Леонардо, ваял подобно Фидию, строил храмы, как бессмертный Брунеллески, а стихи его равноценны стихам Данте. Вы считаете, что такой, как он, был бы не в состоянии сообщить о себе потомкам?
— Друг мой, ты говоришь загадками.
— Тогда постараюсь говорить яснее. Давно уже, с тех самых пор как я работаю на строительстве собора Святого Петра, где однажды увидел Микеланджело, дикие мысли гнали меня в место, которое остается обычно недоступным для простых христиан. Речь идет о капелле, которая носит имя в честь Папы Сикста и для которой ни в коей мере не подходит определение "капелла", поскольку размерами она далеко превосходит многие приходские церкви к северу от Альп. Но скажу сразу: меня влекла — неудержимо, как грех черта, — не сама капелла, а большая фреска мессера Микеланджело "Страшный суд". Я не мог успокоиться до тех пор, пока с помощью Карвакки и одного знакомого кардинала, который позднее оказался только помехой, нашел ход в это таинственное царство.
— Таинственное? Что же таинственного в этой церкви? Я имею в виду, что каждая церковь скрывает тайну, и это — реликвия святого под алтарной доской.
— Возможно, это и правда, брат Лютгер, — согласился Леберехт, — однако "Страшный суд" содержит послание, непостижимое для праздного наблюдателя, скрытое в меланхолии приглушенных оттенков. Я уверен, что ни один Pontifex maximus не нашел еще доступа к этому посланию, иначе они давно бы уже заставили мастера переписать фреску.
— И в какую же аллегорию облек Микеланджело Astrum minax?
— Мастер изобразил трубящих ангелов, которые возвещают Страшный суд, с двумя книгами. Одна из них, без сомнений, Священное Писание, в котором идет речь о сотворении мира. Но что же находится во второй книжке?
Лютгер кивнул и уставился в потолок, как делал всегда, если ему требовалось подумать. Но Леберехт в своем возбуждении опередил его:
— Во второй книге должен быть описан конец света, как его представляет Коперник. Если бы Микеланджело верил Священному Писанию, то изобразил бы только одну книгу, ведь Библия описывает начало и конец мира в одной-единственной книге.
— Но зачем было Микеланджело увековечивать это таким образом? — спросил Лютгер.