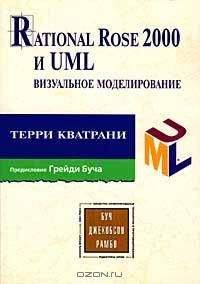— А что с ним случилось? Он умер?
— Да, говорят, от горя он потерял рассудок и утонул в одном из каналов, хотя труп так и не нашли. Но вряд ли я смогу обсудить это подробнее, синьора, поскольку не осведомлен.
Все тот же служка по велению каноника привел к Эртемизе пожилого органиста, который в свое время успел поработать под началом «того несчастного талантливейшего мальчика».
— Он жил на другой стороне, в квартале Сан-Кассиано… Вы же слышали эту ужасную историю луганегера Биазио? — понижая голос, уточнил музыкант. — Нет? О, это поистине жутко! Ходят слухи, у него в подвале были найдены останки восьмерых младенцев, и все сразу подумали, что бедная девочка, малышка Бернарди, стала одной из жертв этого нелюдя…
Эртемиза прикусила губы. От таких вестей ей не хотелось жить, как если бы Фиоренца была ее собственной дочерью.
— И ей было тогда всего два года? — осекшимся голосом спросила она.
— Дайте припомнить… — он провел пальцами по редким седеющим волосам. — Это случилось зимой, в январе тысяча шестьсот пятого… Нет, значит, полтора. Девочка, как сейчас помню, родилась восьмого июля…
Художница замерла. В один день с нею. Вот почему Шеффре всегда уезжал из города, когда близилось это горестное для него число…
— Она была крупным, здоровым ребенком, и все считали ее старше. Но, вы знаете, наверное, вам куда подробнее сможет рассказать об этой истории душеприказчик маэстро. Он настоятель церкви Сан-Поло. Насколько мне известно, перед своей гибелью Фредо успел завещать приходу все, что у него было… Это рядом, вам надо пройти по Риальто…
Органист объяснил Эртемизе, как добраться до Сан-Поло, и она отправилась туда. Со слов настоятеля она узнала, что капельмейстер передал все имущество своей семьи в собственность прихода, а сам его дом в соответствии с завещанием стал приютом для бездомных.
— Но мы ничего там не перестраивали, — добавил священник. — Решили сохранить память о нем…
— Может быть, тогда остались какие-то… изображения? Портреты семьи?..
— Да, конечно. Они сейчас здесь, в приходе. Может быть, это глупо, но многие из нас верят в чудо… Вдруг он жив и вернется?
Эртемиза опустила глаза. Ей нравились эти добрые и открытые люди, но она не чувствовала себя вправе разглашать не свою тайну.
— Я могу… посмотреть?
— Конечно, синьора Ломи.
Они перешли в часовню Распятия, и настоятель проводил ее в помещение за алтарем. Там на одной из стен висело три картины кисти разных художников, более того — написанные в разные эпохи. Все изображенные на них люди были молоды, и только по одеяниям становилось понятно, что это просто три поколения одной семьи. В чопорной паре аристократов середины прошлого столетия угадывались дед и бабка Гоффредо по отцовской линии — было у них какое-то едва уловимое фамильное сходство с музыкантом. Изящная, немного болезненного вида ясноглазая женщина на другом портрете была совсем не той феей, какую рисовало детское воображение Эртемизы, наслушавшейся баек старого «генерала». Она не была сказочной красавицей. Она была по-земному прекрасна. Прекрасна и уже немолода, и стоявший рядом мальчик лет двенадцати предупредительно держал ее за руку, а средних лет мужчина позади них, казалось, с трудом хранит серьезное выражение лица, да и сама синьора готова засмеяться в любую секунду. Эртемиза вгляделась в лицо мальчишки и не без труда узнала в нем Шеффре, да и то лишь по чертам лица: поймать его истинный взгляд художнику совсем не удалось, как будто он все силы бросил на взрослых, а исполнить достойно их отпрыска уже не хватило вдохновения. Зато возле третьей картины она замерла, борясь с глупой и неуместной здесь улыбкой. Ее автор был талантливым мастером с манерой, напоминавшей Горацио Ломи — мягкой, деликатной и старательной. А Бернарди-младший, как ни стремился выглядеть хоть немного старше, отрастив небольшую бородку, чтобы сочетаться со своей серьезной должностью, все равно казался совсем юным и задорным. Он мало изменился с тех пор, и даже теперь, стоило ему забыть о тревогах, в глазах снова начинали хороводить бесенята, а нос по-прежнему смешливо морщился в мальчишеской улыбке.
— А это Лучиана, в девичестве делла Джиордано… Певица, невероятный был голос… И взгляните, какая красавица.
Девушка рядом с ним походила на всех мадонн Леонардо разом — то же возвышенное чело, маленькие мягкие губы, тонкий вытянутый нос, продолговатый подбородок, мелкие волны светло-рыжеватых волос, собранных обручем надо лбом и ниспадавших на плечи. И только ярко-синие глаза отличали ее от леонардовских женщин, это были глаза снизошедшего на грешную землю ангела, и взгляд их словно признавался: «Я ненадолго здесь!» Эртемиза вглядывалась в лик на портрете и никак не могла понять, что в этих глазах так тревожит ее, как будто она всего в шаге от какой-то разгадки, но в какую из сторон шагать — ей неведомо.
— Святой отец, вы дозволите мне прийти сюда и сделать копию?
— Вы можете взять ее для этого себе, я доверяю вашему слову, синьора Ломи.
Эртемиза рассеянно поблагодарила его и сняла картину со стены.
Увидев племянницу за работой, Аурелио уже вознамерился иронически спросить ее, когда это она успела так изголодаться по живописи, как взгляд его упал на портрет, с которого она уже начала копировать.
— Ба! Да это же синьор кантор! Тут он еще совсем мальчишка, но это он!
Она медленно обернулась:
— А вы откуда знаете его, дядюшка?!
— Этот молодец — как пить дать твой тайный поклонник. Нас познакомили с ним во Флоренции, и он весь обращался во внимание, стоило мне только заговорить о тебе.
Эртемиза с трудом подавила улыбку. Получив от нее отказ присоединиться к ужину и насвистывая какой-то незамысловатый мотив, Аурелио направился к двери. Она вздрогнула и насторожилась: это была старая, знакомая с детства песенка про цыган. Еще какая-то не пойманная мысль молнией шмыгнула на задворках сознания. Эртемиза схватила лист бумаги и уголь. Взгляд стремительно прыгал с лица Шеффре на лицо его жены, рука независимо от ее желания что-то черкала на листке. Она лишь соблюдала законы гармонии и следовала закономерностям, которые часто проявляет в своей вариативности природа, создавая новую жизнь с учетом всех ее предшественников. Синие, распахнутые в мир глаза ангела… темные соболиные брови… вздернутый нос и полные чувственные губы, слегка растворенные, будто готовые вот-вот что-то проговорить… волосы темно-каштановые, волнистые, почти кудрявые… Высокий воротничок… Берет, украшенный маленькими перышками… Покатые плечи… Хрусть! С легким щелчком уголек разлетелся в мелкое крошево.
С наброска на Эртемизу глядел юный воспитанник доньи Беатриче Мариано. Дженнаро Эспозито, январский подкидыш, которого полтора месяца назад они с кантором, как ошпаренные, искали по всей Флоренции…
«Спроси об этом у своей знакомой цыганки, уж дитя Арауна видит поболе нас с тобой!»
Глава пятая Нарисуй себе лучшую жизнь
— Его высокопреосвященство хотел бы переговорить с вами в своем кабинете, сеньор Вальдес. Следуйте за мной.
Идальго слегка поклонился и зашагал за секретарем Гаспара Борджиа. Кардинал что-то писал, стоя за своим бюро, при их появлении он только слегка кивнул, сделал знак подождать и закончил фразу до точки, после чего окунул перо в чернильницу. Хавьер впервые видел главу испанской церкви настолько близко, прежде он не мог и помыслить о подобной встрече.
— Благодарю вас, Рамирес, можете быть свободны, — плавно шевельнув в воздухе гибкими пальцами костлявой руки, дозволил Борджиа.
Монсеньор Гаспар де Борджиа-и-Веласко, сын шестого герцога Гандия и внук четвертого герцога Фриаса из рода Веласко, по возрасту являлся ровней Хавьеру и выглядел бы даже младше того, не будь он столь прилизан и сер. Темные пытливые глаза мрачно и с некоторым брезгливым вызовом поглядывали из-под нависающих век, длинный нос с широким кончиком тяжелым трамплином нависал над строго поджатыми выпуклыми губами, отделенный от них строчкой жиденьких темных усиков. Пальцы кардинала в самом деле были удивительно гибки и подвижны — казалось, они могут вывернуться в любую сторону, будто напрочь лишенные суставов.
Он привычно пронзил Вальдеса изучающим взором и, по-видимому, остался удовлетворен своими наблюдениями, поскольку глаза его стали менее колючими. Тогда он заговорил по-испански и начал издалека: расспросил о делах при дворе Медичи во Флоренции, о настроениях тосканцев, о планах и чаяниях самого Хавьера. Тот отвечал по-военному кратко, но откровенно, в меру своей осведомленности.
Как и в Козимо II, в Гаспаре мало осталось примет их нашумевших в истории родов, и при всем своем карьеризме кардинал Борджиа не обладал достаточной степенью хватки, дабы удержать власть в руках и подтянуться на скользком канате выше. Даже кардинальскую шапку бывший архиепископ Севильи и Толедо получил лишь благодаря протекции кузена, герцога Лермы, сан же архиепископа в свое время также достался ему из-за семейных связей в Испании. Он был безусловно умен, но к его уму не было приложения в виде способности чуять настроения вышестоящих и прогибаться в нужную сторону, как это можно было бы ожидать, глядя на его нервные, чувствительные руки. Вальдес неосознанно спрятал свою покалеченную кисть под перекинутый через локоть дорожный плащ: обычно он носил на ней перчатку, но ради такой аудиенции изменил своей привычке и теперь стеснялся «искалеченного обрубка», как ему не раз приходилось называть ее про себя, с досадой отмечая, что работает она все хуже и хуже. Коварный языческий жрец за миг до того, как голова его слетела с плеч, успел нажать что-то в своей ловушке, и молодой конкистадор едва спасся из каменного плена, расплатившись за жизнь раздробленной левой рукой, которую сжало тогда будто в жерновах меж двух камней хитрого устройства святилища индейцев. Конечность усыхала быстро и неотвратимо, уже почти не в состоянии удерживать даже шляпу за поля, однако увечность Хавьера стесняла лишь самого Хавьера, а от внимания пылких итальянских поклонниц отбоя он не ведал, ему благоволили даже некоторые весьма знатные флорентийские матроны. И лишь та, расположения которой он так давно и безуспешно добивался и напрямую, и через ее подругу-герцогиню, и другими способами, оставалась равнодушна к его огненному взгляду и улыбалась в ответ только из вежливости, через силу. Вальдес же сходил от нее с ума, никогда прежде он не мог и помыслить о том, что способен так глупо влачиться за неприступной красоткой, тем более — чужестранкой.