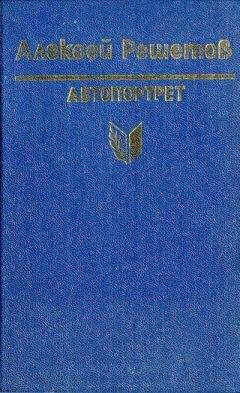— Неправда! — заорал Тараска, пытаясь вырваться из рук жолнеров. Один из них стукнул его крепко, он обмяк, на колени упал, заскулил от боли, но продолжал твердить. — Не убивал я Марыську, не я это! Люба она мне была, пальцем не тронул!
Я встряхнула сорочку на вытянутых руках, ответить хотела, только слова в горле застряли, как кровь увидала на сорочке. Словно ветер шальной в голове у меня пронесся, мысли как листья разметал, сложилось все сразу. Вот ведь глупой я была!
— Ты убил купцов, ты хотел отравить пана Потоцкого, и ты сгубил Марыську. Это ведь ты слухи про нее распускал, от злости и ревности давясь? Только брехня это все была, сам же знаешь! Снасильничал ее душегуб, а она ведь девкой была, — швырнула я Тараске в лицо сорочку Марыськи. — Понял душегуб, что не поздоровится ему, не будет она молчать, отцу пожалуется, потому и убил Марыську, в свой подарок переодел, чтобы не осталось следов, в воду выкинул, словно собаку!..
Староста побледнел, за сердце схватился. Батько Марыськи со скамьи встал, с лицом красным, кулаки сжал, к Тараске двинулся. Жолнеры ему путь преградили. Лицо Василя страшное сделалось, словно бес в него вселился. Только пока его не замечал никто.
— Не я это! — всхлипнул Тараска, слова глотая, тараторить начал. — Любил я Марыську, света белого за ней не видел. Как смеялась она, у меня все замирало внутри, сам не свой делался. Да разве посмел бы я хоть пальцем ее тронуть, да я дышать на нее не мог! Думал, что если молва про нее дурная пойдет, то свадьбы не будет. А тогда она на меня взглянет! Ходил за ней, следил, но в тот вечер не углядел. Кинулся искать, да только поздно было… В кустах одежду ее нашел, а сорочку отдельно, еще дальше, в зарослях красавки. Как кровь увидал, понял, что беда с ней стряслась. Кинулся догонять душегуба, но не догнал!.. Темноволосый он был да высокий!..
— Довольно! — синеглазый лях брезгливо сорочку с пола ногой отшвырнул. — Пся крев, в кандалы его!
— Обождите, вашмость, — остановила я его. — Ведь надобно еще покойницу упокоить, а то явится опять за душегубом…
Шляхтич споткнулся, на меня уставился.
— Поймали же душегуба…
— Нет, — покачала я головой и на Тараску кивнула. — Не убивал он девку. Убийцу-то он видел, когда на берег шел, но вот беда, узнать не может. Да, Тараска?
— Как такое возможно? — озадачился шляхтич.
— А он лиц не различает. Меня не узнал, купца показать не смог. Даже цвета глаз у Марыськи не знал. А она это быстро поняла, оттого и провести его смогла, от преследования избавилась, просто платок на голову накинув. В тот вечер она от него сбежала, на речку пошла, уж больно ей подарок приглянулся. Жадной Марыська была до подарков. Сорочка с барвинком вышитым… — я достала шелковый барвинок, в руках покрутила. Староста задыхаться начал. — Пане Горобець, как все было?
Лицо у него покраснело, глаза мутными сделались. Староста отмахнулся от чего-то невидимого.
— Не было ничего! Врешь! Прочь пошла!
Тараска расхохотался зло:
— Сдохнешь, сучий сын! Горилку уже выпил!
Я к старосте подошла, барвинок в руках теребя, глаз отвести он от него не мог, отмахивался от меня.
— Ты зачем Марыську снасильничал?
— Не было ничего! — твердил староста, а губы уже синеть начали. — Порченая она!
— Прощения у покойницы проси! Иначе с собой заберет!
На колени мужик рухнул, за горло схватился, мимо меня уставился.
— Прости, Марыська, прости! Думал, порченая ты… Не знал! Бес попутал… разум помутился… Прости… Думал, от свадьбы тебя отговорить, ради дочки, Богом клянусь! Зачем ты смеяться надо мной стала? Зачем? Словно черт в меня вселился, когда представил тебя в сорочке этой клятой! А потом, Марыська, зачем потом стала грозить отцу все рассказать? Зачем? Зачем на камнях оступилась? Это ты все виновата! Ты сама…
Староста рыдать начал и хрипеть, глаза слепые сделались.
В шинку неразбериха началась, олийник к старосте кинулся, лавкой наперевес жолнеров разметав. Василь медленно встал, за саблей потянулся. Тараска вопил, старосту проклинал, у Марыськи прощения просил за наговоры свои грязные, что жизнь ей сгубили. Шинкарь сокрушался, убыток считал, лавку сломанную, посуду побитую. Шляхтич же растерялся поначалу, потом заорал, к порядку призывая, саблю вытащил. А за окном гроза началась, раскаты грома все заглушили, на секунду даже притихли все. Только мне времени хватило, я под шумок Макарыча ухватила и к выходу потащила. Никому до меня дела уже не было.
Снаружи пелена дождя хутор укрыла, словно морок. Я к спине коня пригнулась, и полетели мы прочь. Атаман ругаться будет, что задержались. А славный жеребец у ляха, плохо только, что светлый, видно издалека.
— Христинка, вот зачем ты у шляхтича коня увела? Ведь осерчает, — попрекнул меня Макарыч. — И грозу зачем позвала, так бы ушли!
— А я уверенной быть хотела, что уйдем. А с ляхом еще встретимся, когда Нежин брать будем. Вот тогда и сочтемся с ним, — проговорила я, крестик на груди сжимая.
Назад оглянулась, хоть и знала, что плохо это. На миг почудилась мне девка в белой сорочке, что на берегу стояла, вслед мне смотрела. Мигнула я, и вот уже не стало ничего позади, только стена дождя.
Свитка — верхняя длинная распашная одежда из домотканого сукна.
Ксёндз — польский католический священнослужитель.
Магерка — шапка с широким околышем из меха или овчины.
Плахта — домотканая (обычно шерстяная) юбка, состоящая из двух полотнищ.
Хвойда — гулящая женщина.
Вашмость — вежливое обращение к польскому пану.
Жолнер — солдат.
Мотанка — сделанная из ткани узелковая кукла.
Схизматы — так поляки, католики, называли православных.
Бискуп — католический епископ.
Выкрест — человек, перешедший в христианство из другой религии.
Калгановка — водка, настоянная на корне калгана.
Халупник — безземельный крестьянин, живущий в чужой хате.
Олийник — производитель или продавец масла, владелец маслодельни.
Гнездюк — запорожец, осевший на хозяйство.
Гайдук — надворная стража.
Хвойда — гулящая женщина.
Красавка — простонародное название белладонны.
Навь — мертвецы, невидимые души мертвецов, место, куда они уходят.
Громовица — здесь характерница, что может вызывать грозу.