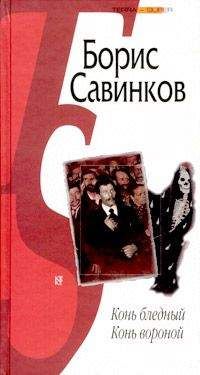Проделав все упражнения, он принял в ванной холодный душ и, освеженный, чувствуя, как в теле играет каждый мускул и гудит взбудораженная кровь, вернулся в кабинет и сел за стол разбирать бумаги. Отложив одну, которая требовала срочного ответа, он взял лист из блокнота и стал составлять черновик. Занятый этим, он не заметил, как вошла Елена. Только в ответ на ее «доброе утро» он отложил перо и оглянулся.
Елена вошла в ситцевом халатике, наброшенном на плечи. Стриженые волосы ее, смоченные водой, были гладко зализаны кверху. Солнечный свет розовел на полных оголенных руках и икрах ног. Она была красива красотой здоровой тридцатидвухлетней женщины, несколько пышной и громоздкой, но все же привлекательной. Но сама она презирала эту красоту, как что-то стеснительное, мешающее ей жить по установленным для себя законам. И она нарочно носила простецкую, зализанную прическу, мешковатые, бесформенные платья, подражала мужским манерам и всякий намек на то, что она интересна как женщина, принимала за оскорбление. И в брачных отношениях она была равнодушно-холодна, относясь к ним, как к неизбежной, но не увлекающей ее обязанности.
— Что ты поднялся в такую рань? — спросила она, протягивая руку Кудрину. Она никогда не позволяла себе целоваться с ним утром, считая это излишней телячьей нежностью.
— Что-то не спалось — ответил Кудрин.
— Чай на столе! Иди, пей... Я сейчас оденусь.
Кудрин вышел в столовую. Самовар шипел на покрытом клеенкой столе. Клеенка была старая, в пятнах, на самоваре застыли мутные натеки. Кудрин сжался. Он давно настаивал на замене этой испятнанной клеенки, прожженной в одном месте утюгом, — скатертью, но Елену это не волновало, как не волновало и то, что самовар был грязен и запущен.
— Феня! — сказал Кудрин вошедшей домработнице, стараясь говорить спокойно, — вы не могли бы хоть раз в неделю почистить самовар?. Стыдно ведь на стол поставить. В захолустном трактире и то чище. Возьмите на кухню и приведите его в порядок.
— Слушаю, — ответила Феня, недоуменно взглянув на хозяина и почуяв, что он с утра «не в себе». Она унесла самовар. Кудрин взял с тарелки кусок хлеба и стал делать себе бутерброд.
Появилась Елена, уже одетая в свое затрапезное платье.
— А где же самовар? — спросила она.
— Я просил Феню вычистить его, он же в невозможном виде. Не можешь ли ты требовать от Фени соблюдения элементарной чистоты в доме? Право же, неприятно, когда на столе вместо самовара какой-то мусорный ящик.
Елена округлила глаза.
— Что это с тобой? С левой ноги встал?.. Подумаешь, какая важность, что самовар не начищен, как сапог. У Фени и без того хватает работы, и я не стану эксплуатировать человека для ежедневной чистки самоваров в твое удовольствие. У нее должно быть свободное время для политического развития... И что за беда? Внутри самовар чистый. Что ж тебе еще нужно?
— Но противна же грязь... эта прогнившая клеенка времен очаковских и покоренья Крыма... плохо вымытые стаканы.
Елена пристально посмотрела на Кудрина, прищурив веки.
— Знаешь, что я тебе скажу, Федор!... Не полезно ли было бы тебе на некоторое время бросить твое канцелярское болото и пойти куда-нибудь на производство, к станку... орабочиться? Ты забюрократился, обмещанился.
Кудрин отодвинул стакан и взглянул на Елену с сожалением:
— Ты понимаешь, какой вздор ты говоришь?.. Если я хочу, чтобы у меня в доме была чистота, то я забюрократился?
Елена с явным превосходством повела плечом:
— Всегда начинается с чистоты, уюта, идут крахмальные скатерти, фарфор, потом нужна мебель красного дерева, бархатные портьеры, люстры. Потом к этому еще размалеванная дамочка, как у твоего Половцева, и, наконец, растрата, суд и вылет из партии... Самая обычная история!
Кудрин расхохотался.
—. А ты не можешь себе представить, что можно жить с чистыми скатертями, хорошими севрскими чашками, но без растрат и разврата?
— Нельзя! Одно тянет другое. Со скатерти начинается, а под скатертью оказывается топь, которая затягивает... Мне противно видеть, что у тебя растут накопительские замашки, стремление к «красивой жизни».
Кудрин промолчал, пока вошедшая Феня поставила на стол несколько отчищенный от потеков самовар. Когда она вышла, он сказал:
— У меня накопительские замашки, а у тебя запоздалая и вредная отрыжка нигилизма. Твои якобы пуританские каноны ничего общего с большевизмом не имеют. Мы работаем и боремся за то, чтобы создать для всего народа, для всех трудящихся чистую, хорошую, комфортабельную жизнь. в которой все будет красиво. А ты проповедуешь отвратительное кривлянье. Ты не ведешь за собой, а приспособляешься к наиболее косному и отсталому, которое хочет продолжать сидеть в темноте и в грязи, в какой держал трудящихся капитализм... Однажды покойного Жореса на одном из съездов Интернационала упрекнули в том, что он приехал в вагоне первого класса и поселился в дорогом отеле. Он ответил, что посвятил свою жизнь борьбе за то, чтобы весь пролетариат. ездил в первом классе и мог жить в хороших отелях. И был прав. Если я честно делаю мое дело революционера и коммуниста, то хоть бы я спал на королевской золотой постели — это революции не повредит.
Елена снова пожала плечами:
— Да, если весь пролетариат тоже будет спать на королевских постелях. А пока этого нет...
— Погоди, — перебил Кудрин, — я привел крайний пример. На сегодня, как сказал Маяковский, мне, кроме свежевымытой рубашки... чистого самовара и незадрипанной скатерти, ничего не надо. Это не роскошь, а гигиена. Мы внушаем рабочему классу, что лишь в нормальных и здоровых условиях жизни он сможет не только удержать власть, но и построить могущественное государство Советов.
— Начинается законом гигиены, — упрямо повторила Елена, — а кончается скатыванием в мещанское ожирение и застой... и оставим этот бесполезный спор.
Кудрин сердито замолчал, размешивая ложечкой сахар. Его неприятно укололо замечание Елены о «размалеванной дамочке» Половцева. Оно было злое и неверное. Артистка драматического театра Маргарита Алексеевна Бем, с которой профессор всюду открыто появлялся, как с женой, никак не подходила под грубую кличку, данную Еленой. Кудрин неоднократно встречал Половцева с Маргаритой Алексеевной, несколько раз заезжал вместе с ним к Маргарите Алексеевне домой и был приятно поражен каким-то особенным уютом и девической скромностью ее маленькой квартиры. В ней не было ничего от ненавидимых Кудриным мещанства и обывательщины. Две светлые, строгие комнаты, рояль, картины известных художников, в большинстве подарки авторов с надписями; почти хирургическая чистота и сама хозяйка, скромная, миловидная женщина с вдумчивыми серыми глазами, которая удивительно тактично и умно держалась с Кудриным, начальником Половцева по работе.
В обращении Маргариты Алексеевны с большевиком, бывшим комиссаром гражданской войны, награжденным орденом Красного Знамени за штурм Кронштадта, не было ничего напоминающего поведение жен других специалистов, в домах которых приходилось бывать Кудрину, Там он встречал чаще всего затаенную боязнь или принужденно ласковое заискивание, желание угодить человеку; от которого зависела теперь служебная карьера мужей. В других случаях с ним держались настороженно и неловко, как будто опасаясь, что он вдруг выхватит шашку и начнет рубать буржуев. Хуже всего было там, где он чувствовал за фальшивыми улыбками спрятанное презрение к хаму, которого непонятная судьба вознесла на высоту, такую высоту, что приходится, поджимая от злости губы, но наружно вежливо принимать его у себя за столом.
У Половцева он чувствовал себя свободно и просто, Маргарита Алексеевна не делала никакого различия между Кудриным и другими своими гостями и друзьями — крупными художниками, писателями, артистами, учеными. Обо всем, чем жила страна, она имела свое самостоятельное мнение, иногда положительное, иногда резко критическое, но без злорадства и всегда умное. Вначале Кудрин думал, что Маргарита Алексеевна просто повторяет слышанное от Половцева, но однажды в его присутствии она вступила в жестокий спор с профессором по поводу путей развития театра и в этом споре разгромила противника наголову. Эта самостоятельность и оригинальность мысли заставили Кудрина относиться к Маргарите Алексеевне с дружелюбным уважением. Бывая у нее, Кудрин не раз ловил себя на мысли, что он был бы очень рад, если бы у него дома была бы такая же непринужденная, свободная, культурная атмосфера.
Он допил чай. Подошел к окну и выглянул. День был солнечный, прозрачный. «На выставку лучше всего будет поехать в полдень, когда будет побольше света»,— подумал он, взглянув на Елену и почувствовал по ее поджатым губам и напряженной позе, что она обижена происшедшим разговором. Он подошел к ней сзади и ласково положил руки на ее плечи.