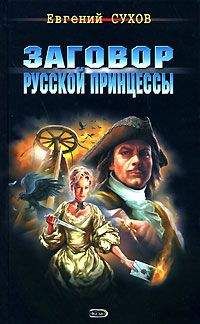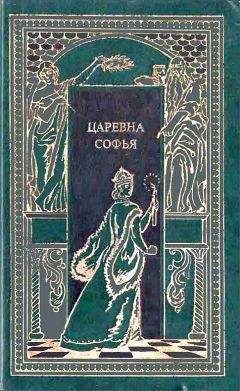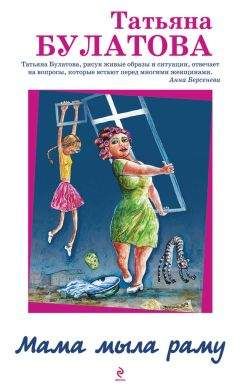— Как есть говори, уж не с дитем малым беседуешь, — напомнила государыня.
— Я так думаю, Евдокия Федоровна, девки немецкие доступнее наших баб будут. Во время разговора лицо не прячут, говорят смело, а мужикам это нравится.
— Вот оно как.
— А потом наши бабы ухаживать за собой неспособны. Рожу-то белилами да сажей мажут. А ими любую красоту можно испортить. С такой один раз поцелуешься, а потом полдня пыль сплевываешь. А немки все беленькие да чистенькие, на себя благовония разные прыскают. Вдохнешь такого аромата, так потом долго голова кругом идет. И приятность во всем теле делается.
— Не ласков ты к нашим девкам, — укорила государыня, покачав головой.
— А как же быть с ними ласковым, если белила на щеках в палец толщиной! Да за ними кожу разглядеть нельзя.
В лице государыни просматривался неподдельный интерес.
— А ты, видать, знаток по бабам-то. Прежде за тобой такого не наблюдалось.
Глебов обиделся:
— Государыня, ты спрашиваешь, а я отвечаю.
— Ты на меня зла не держи. Худого я тебе не желаю. Что еще можешь сказать?
— Кхм… У нашей девки фигуру не разобрать. Не поймешь, не то ладная, не то кривая где. Как напялит на себя с пяток платьев, так больше на куль с ногами смахивает. По улице шествует, так непонятно, где у нее перед, а где зад.
Евдокия рассмеялась, показав ровные, отбеленные порошком зубы. Глебов сдержанно улыбнулся, подумав о своем. На батюшкиной соломе Евдокия заливалась точно таким же бесшабашным смехом, когда он беззастенчиво лез под ее платье жадной ручонкой.
— Кажется, тебе это не особенно мешало, — сдержанно заметила Евдокия Федоровна.
Дыхание у Глебова перехватило.
— А ты помнишь, государыня? — спросил Степан мгновенно осипшим голосом.
На какую-то секунду их взоры пересеклись, высекая яркую искру. Что-то в глазах Евдокии Федоровны неожиданно переменилось, от чего, пусть на мгновение, но она сделалась другой. Следовало бы повиниться за своеволие, опустить покаянно взгляд, но не сумел Степан и продолжал любоваться государыней, понимая, что балует с пожарищем. Вот кликнет сейчас стражу Евдокия Федоровна, и отведут охальника к судье Преображенского приказа князю Ромодановскому.
Крохотная родинка на подбородке продолжала бесстыдно притягивать взор, напрочь парализовав волю. Ему ведь многого не нужно. Подай только государыня знак, а уж после того он сделается верным ее рабом до самой своей кончины.
— Помню, окольничий, — сухо отвечала Евдокия Федоровна, отгородившись от холопа стеной спеси.
Обомлел от увиденного Глебов, уперев бесстыдный взгляд в пол. Вот он, царицын локоток, до него только вершок, потянулся пальчиками и скомкал в жменю царственную плоть. А только радости от такого охальства никакой.
— Только давно все это было, Степан Григорьевич. Я тогда голоштанной девкой бегала. Так чем же еще немки краше русских баб? — застыло в глазах царицы удивление.
— Немки платья другие носят, так что бабья сущность всегда видна, — сдержанно отвечал Глебов. — А для мужского взгляда это приятно.
Государыня посмурнела, затихнув. А когда подняла затуманенный взор, произнесла:
— Теперь я понимаю, почему Петруша в Кокуй повадился. Но не ходить же мне с титьками наружу!
— Наши бабы в смирении, государыня, воспитаны, — легко согласился Степан. — А у тех платья такие, как будто бы только о блуде и думают.
— Откуда эта девка, что государя приворожила?
— Ты и об этом хочешь знать?
— Мне все интересно, что с Петром связано.
— Ну коли так… — сдаваясь, протянул Глебов. — Немка она, зовут ее Анна Монс. Батька ее вином в Кокуе торгует.
— Чем же она так хороша?
— В Немецкой слободе она первой красавицей слывет. Поначалу с Лефортом сошлась, а вот теперь к Петру Алексеевичу прибилась.
— И не жалко Лефорту своей полюбовницы? — неожиданно поинтересовалась Евдокия.
— Ему от этого честь великая, — уверенно отвечал окольничий. — Получается, что как бы с самим государем породнился.
— Кто об этом знает?
— Да многие, государыня, — признал Глебов, — только вид делают, что не ведают. Боятся! Тут один купец Монсиху блудливой девкой обозвал, так его потом на площади прилюдно выпороли. А тот переулок, где эта Монсиха проживает, в народе Девкиным прозвали. Еще государь подарками ее дорогими одаривает, тут сказывали, что он ей свой портрет подарил, алмазами украшенный, а еще пансион ей выплачивает и мамаше ее.
Слегка пухловатые губы царицы тронула ухмылка:
— Вот чем мой Петруша занимается.
— Государыня, ты только скажи, так я эту Монсиху навек образумлю. — Подавшись вперед, окольничий заговорил горячо: — Знаю я, где она с Петром Алексеевичем время проводит. Чаще всего у своей подруги, такой же беспутной девки, как сама. А потом до дома без сопровождения топает. Дорога через озеро проходит, а местность там глуховатая, берега камышом поросли. Полюбовницу государя можно там подстеречь, так что никто ничего и не узнает.
Глаза царицы торжествующе блеснули, выдавая внутреннее волнение. А может, это всего лишь колыхнулись на сквозняке свечи?
— Не надо, — произнесла она после некоторого раздумья. — Не хочу брать греха на душу. Помолюсь в домовой церкви, а там как-нибудь оно само уляжется. А ты, Степан, ступай. Мне одной побыть надо.
Подняв с лавки шапку, окольничий произнес, скрывая выпиравшую обиду:
— Как скажешь, государыня.
— Постой.
Степан повернулся. В глазах надежда. Неужели дождался?
— Не держи на меня зла, Степан Григорьевич.
— Да за что же, Евдокия Федоровна? Ты государыня, а я всего лишь холоп твой.
— Ты вот что, приходи ко мне завтра, когда девки лягут. Одиноко мне. При муже живу, а ласки не ведаю. А так хоть словом с тобой перемолвлюсь, глядишь, и полегчает на душе.
— Приду, государыня.
Надвинув шапку на глаза, окольничий спрятал ликование. Он поклонился и прошмыгнул в незапертую дверь.
* * *
Анна Монс по праву считалась одной из красивейших девиц Немецкой слободы. Длинноногая, статная, с крепкой высокой грудью, она невольно притягивала к себе мужские взгляды. Ее личико, всегда светящееся улыбкой, больше напоминало кукольное: широко распахнутые бледно-голубые глаза как будто бы излучали сияние и светились вниманием к собеседнику, пышные золотистые волосы, собранные в высокую прическу, кокетливыми прядями выбивались из-под головного убора на висок и затылок.
Первым, кто попал под действие чар юной прелестницы, был фабрикант Фокс, владелец кирпичного завода. За радость обладать шестнадцатилетней красавицей он ссудил ее отцу, отставному капралу, деньги на открытие лавки, и тот вскоре уже вовсю торговал сдобными кренделями в Москве.
Отставной капрал Генрих Монс быстро понял, что его красавицы дочери — самый настоящий капитал. И не стеснялся говорить барышням о том, чтобы они оказывали знаки внимания щедрым покупателям. Затем Анна перешла в пользование к заезжему купцу, который щедро отсыпал серебро в побитую шрапнелью ладонь старого капрала.
Об удачливом торговце заговорила вся Москва, нахваливая его кренделя с начинкой. Торговые дела у старого Франца Монса развивались, и скоро он открыл винную торговую лавку.
Позже у Анны были еще три связи, позволившие еще более укрепить благополучие старого хитреца. Бывший капрал построил себе каменный дом в три клети, огородив территорию забором длиной в полверсты, а своим достатком превзошел многих бояр и без конца восхвалял случай, который вынудил его уехать из родной Вены.
По настоящему значимым старый Генрих ощутил себя тогда, когда к нему в гости вдруг неожиданно стал захаживать молодой царь Петр. Выпивая крепко заваренный чай и поедая сдобные булочки, тот поглядывал на красавицу-дочь, не смевшую от смущения поднять на государя взгляд. Едва Петр уходил, как старик с упреками набрасывался на дочь, требуя от нее быть с русским господином пообходительнее.
Старый Монс уже лелеял мечты расширить свое хозяйство: пооткрывать лавки в Архангельске и, заручившись поддержкой Петра, организовать беспошлинный ввоз табака в Москву, который пользовался среди иноземцев необыкновенным спросом.
О том, что его наставления не прошли для дочери бесследно, Генрих Монс понял очень скоро. Однажды, задержавшись в лавке, он, стараясь не разбудить любимицу, неслышно направился в ее покои. Вдруг его старое сердце обдало холодом, — из комнаты любимой младшей дочурки раздавались сдавленные крики. Не разобравшись, старый капрал подумал о том, что в комнату ворвались грабители и принялись душить его любимицу. Подхватив кочергу, он вбежал в горницу дочери, где застал государя Петра, пристроившегося к его дочурке.
Конфуз был позабыт после двух больших штофов водки, выпитых на пару с государем. Но в следующий раз Петр, уже не стесняясь своих чувств, едва ли не принародно мял сдобное девичье тело.