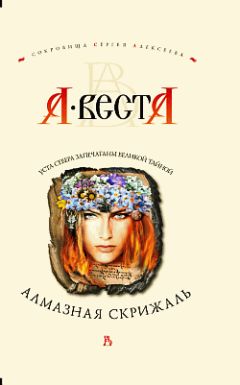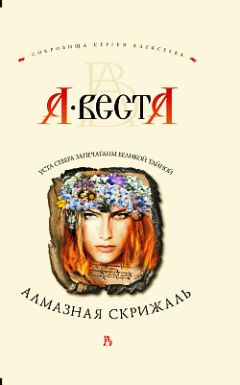«Сапожок» молчал, покусывая остаток губы.
— Ну, хрен с тобой, записывай… Ты Гликерию видал? Девушка она красивая, и если б захотела… Домогался ее тут один… Роберт Каштелян, тренер по стрельбе, мастер спорта, при понтах, крутой и все такое… Она его бортанула. Но я при сем не присутствовал, в свидетели не пойду…
— Постой, постой, — Вадим силился вытянуть из кармана брюк блокнот, — тренер, а в каком обществе, в «Динамо» или «ЦСКА»?
— В обществе охраны памятников… Откуда мне знать, ты — мент, ты и узнай… Ну, ладно, в последний раз тебе помогаю… Телефон его где-то у меня завалялся. Я ему две вещицы подновлял для коллекции…
— Что за коллекция?
— Да так, всякая экзотика, в основном — ножи, кинжалы, стилеты. Сабли тоже есть. Так вот, он, как Гликерию увидал, аж затрясся весь… С Владом у них потом была небольшая разборка с мордобоем. Владка его с лестницы спустил…
— И ты молчал… Вот народ! Клещами все тянуть надо. А этот Каштелян, он кто? Армянин?
— Бери выше. Пан! В переводе с польского — ключник. Кстати, он изредка наведывается… А Владку она любила. Он был у нее первым. Но они хотели как-то по-особому начать… Что ухмыляешься, мент? — «Сапожок» злобно напружинился, единственный глаз стал ярким, как молодой крыжовник. — Тебе и не приснится никогда такое. Благословения они ждали. Да только не дождались… Что лыбишься, как вошь на гашнике? Окстись, паря! Ты другой породы, не брахманской крови. Так что лучше сразу забудь, если не хочешь из ума вывихнуться.
Вадим ощутил приступ удушающей ярости, рука сама сгребла в комок мокрую, вонючую тельняшку.
— Слушай, ты… братец… Я не посмотрю, что ты ползаешь на двух костях. Ты сам забудь о ней, слышишь, родственничек. Что-то ты больно горяч! Может, это ты Влада пристукнул, а заодно и второго? Где-нибудь под комодом разобранный «калашик» прячешь, а стрелки на тренера переводишь! Ведь ты у нас контуженный и за поступки свои не отвечаешь!
В прихожей слабо звякнул колокольчик, никчемный «дар Валдая». На кухне пахнуло ветром и летучей чистотой вербы.
Распаленный гневом Вадим Андреевич и растерзанный Калигула испуганно воззрились на Гликерию. Из рук ее выпала сумка с молоком и хлебом. Лицо ее, еще румяное от морозного ветра, вмиг посерело и состарилось. Нежный подбородок затрясся, брови грозно сошлись к узкому переносью. Но через секунду она стала так неумолимо хороша, что мужчины пьяно потерялись и вообще забыли свое месторасположение во Вселенной.
Вадим, уставившись на нее, блаженно улыбался. Калигула, по-обезьяньи скатившись со стула, вдруг упал к ее ногам, прижался лицом к коленям.
— А… Сестра Кэрри пришла… Ой, да какие мы сердитые! А гребешок-то уже тутоньки. Подружка в погонах притаранила… — бормотал он дурашливо.
Стыд и чувство непоправимой беды вытолкнули Вадима из кухни. Лика с трудом вырвалась из рачьих клешней Калигулы.
— Скорее уходите, я провожу вас.
Она сама набросила на плечи Вадима Андреевича шинель, встав на цыпочки, нахлобучила ушанку, обмотала шею шарфом. Костобоков смотрел, как быстро и виновато прячет она свои узенькие стопы в ботинки с облысевшей опушкой по краю. И если есть у тела свой собственный разум, то он готов был бы поклясться, что в жизни не видел ног красивее и «умнее».
— Ведь он же контуженный, больной, а вы? Зачем?.. — как в бреду, шептала Гликерия, пока они спускались по лестнице.
На улице Гликерия резко остановилась, смерила его взглядом.
— Вот что… Мне больше ничего от вас не нужно!
Девушка оттолкнула его протянутую для прощания руку и убежала по серой поземке. Он долго смотрел ей вслед, потом зашагал к шоссе. Начиналась метель. Ветер бил в грудь. В глазах маячило уродливое сплющенное тело, мешком осевшее у стройных, березово-светлых девичьих ног.
Аврора, книга Маргарит,
Златая Чепь и Веры щит…
Н. Клюев
Что это было? Милость судьбы или ее приговор? Как могла одна-единственная старая книга мгновенно перевернуть его размеренную жизнь? Известно, что падшие духи, воюя за человеческую душу, подходят строго индивидуально. Так, сладострастнику они непременно подсунут плотский соблазн в аппетитной упаковке, а ученому отшельнику — тайно сорванный плод с древа Познания.
Уже звонили к вечерней, а он все стоял, сжимая в руках холодный скользкий переплет. Чьей охранительной молитвой сбереглась эта книга среди оплесневелых, источенных червями, хранящих на себе следы пожара церковных фолиантов, приготовленных к медленному тлению в монастырской кладовой?
«Голубиная книга» — едва заметно проступало на порыжелом растрескавшемся титуле. Переплет хранил следы воды и огня, но изнутри листы книги были лишь слегка опалены, и края их осыпались от слабого прикосновения. «Книга сия писана тщанием смиренного Дадамия, аки тайновидцем, зрящим мира Премудрость и дня грядущего Славу. В лето от Адамия семь тысяч и триста сорок пять годов, а от Бога Слова — тысяча восемьсот тридцать семь годов». Дадамий! Так называл себя монах-прозорливец, вещий Авель!
Взять книгу без благословения настоятеля — значило оскорбить своего ангела-хранителя накануне Великого Поста. Но едва затих шум ударившей в голову крови и отхлынула с лица пунцовая краска, отец Гурий, в миру Василий Васильевич Лагода, тридцати трех лет от роду, торопливо спрятал находку на груди и, словно страшась погони, покинул гулкие своды монастырского подвала.
Своеволие — вот начало всякого греха и отступничества… На Масленой неделе, перед самым началом Великого Поста, настоятель благословил очистить «холодный подвал», где дотлевали в покое и сырости отжившие свой век обиходные предметы. Среди груды пыльного старья иногда попадались и книги: истертые требники, залитые свечным воском псалтири, уже никуда не годные, изъеденные мышами и древоточцами. Сверток из подгнившей мешковины отец Гурий сначала бросил в общую кучу, но потом, раздумав, снова взял в руки и развернул. В сыром саване лежал брикет вощеной бумаги, а в нем толстая тетрадь. На ладонь лег скользкий переплет из порыжелой телячьей кожи.
Отец Гурий давно интересовался личностью Авеля и даже пробовал изучать его «солнечные диаграммы» и «звездные течения». Словно предвидя некую общность судьбы, он кропотливо собирал сведения о мятежном прозорливце, и постепенно Авель стал ему братски близок. Вещий монах, при жизни отмеченный перстом избранничества и скорби, и после кончины своей увлекал души соблазном тайного знания.
Вечный странник и мудрец, смиренный Авель, или, как он сам себя называл, отец Дадамий, был рожден в простом крестьянском звании. По воле родителей он рано женился и с молодых лет оказался обременен семьей. Но иное повеление оказалось сильнее. Услышав в себе тайный голос, Авель удалился от мира.
Дар пророчества впервые посетил его на острове Валааме. По благословению благочинного Авель поселился в отдаленной пустыни, где, «яко злато в горниле», выплавился его пророческий дар. Но печальна судьба пророка в своем отечестве. Каббалистические откровения Мишеля Нострадамуса стяжали тому всемирную славу, богатство и немалый придворный почет. Тайнозритель же Авель лишь многие скорби претерпел за свой несмолкающий вещий глас. Находясь ежечасно «под смертною казнию», мятежный монах пророчествовал судьбы царей и государств. Гремел, яко божий кимвал, презрев вельможный гнев, гонения, жестокие колодки и цепи, кои неоднократно налагались на него, ибо пророчества его, как правило, бывали мрачными, изобиловали точными датами конца царств и непременно сбывались. О них можно было бы и промолчать, но отец Дадамий настырно излагал свои «видения» перед лицом церковных иерархов, и крамольному делу тотчас же давали ход, подозревая монаха то в заговоре, то в оскорблении высочайших особ. Монастырский затворник в мгновение ока превращался в узника совести, то есть сидельца Петропавловской крепости.
Но после дословного исполнения реченного через него отца Дадамия с любезной поспешностью освобождали из узилища, где он пережидал вельможный гнев, и новый император считал своим долгом лицезреть таинственного чтеца Сивиллиных книг и подолгу беседовать с ним наедине. Отца Дадамия с почестями возвращали в обитель, но почти сразу же, «аки птица в заклеп», он вновь попадал в узилище за следующее «зело престрашное» предсказание. В конце своей жизни Авель умолк, и явленное ему в видениях доверял лишь бумаге, записывая реченное ему Духом посредством особой тайнописи. Последние двенадцать лет Авель трудился над загадочной книгой.
Вещий монах умер в 1841 году. Среди скудного наследства Авеля: двух чайников, поношенной рясы, нескольких монет и простых обиходных предметов ни книг, ни записок не значилось. Эта опись, заключенная в рамку, доныне предъявляется всем посетителям суздальского музея-тюрьмы.