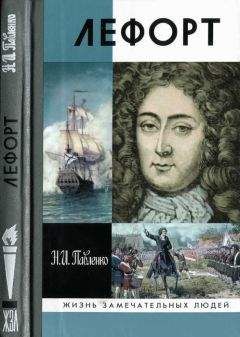В этот момент вошел Ванька. На большом подносе он держал кашу, начиненную персиками, сливами, яблоками и различными ягодами. Серебряной лопаткой он разложил кашу гостям. Большой кусок отделил хозяину, сверху украсив крупной сочной сливой.
— Ты Ванька, меня обкормишь! — добродушно пророкотал хозяин.
— Кушайте себе во здравие, — зубы повара как-то ляцкнули. Он заспешил удалиться на кухню.
Минут через десять с нему влетела Глашка:
— Иван Гаврилыч, вас хозяин требуют!
На непослушных ногах, побледнев от страха, Ванька вошел в столовую. Данила Матвеевич сидел с перекошенным лицом.
— Ты, подлец, чем меня накормил? Я словно гвоздей наелся, во рту железом отдает.
Заюлил повар, забегали глазки:
— Это все Лушка, это она нынче на базаре черт— те знает у кого хрухты покупала. Можа чего и попавши.
— Анастасьюшка, зови скорей лекаря да священника, — купец изрыгнул на праздничный, разукрашенный серебряным шитьем кафтан что-то слизисто-кровянистое. — Ох, томление во всех членах, смерть горчайшая подходит!…
Когда, запыхавшись, прибыли священник и доктор Позье, они нашли в спальне остывающий труп купца. Лицо его было перекошено мучительной смертной гримасой.
В доме Данилы Матвеевича начались хлопоты, которые сопутствуют смерти. Молодая вдова то и дело заходилась в неутешных рыданиях. Хмурый и неопрятно одетый гробовщик с аршином в руках обмерял усопшего. Лушка, быстро мелькая иглой, шила погребальный саван. С мягким пушком на верхней губе монашек читал молитвы.
…В день похорон улица была черна народом. Сладко пел синодальный хор. Держа разукрашенный гроб на холстинных полотенцах, народ двинулся к кладбищу. Вдову, то и дело терявшую сознание, вели под руки.
Среди народа держался слух, что-де не своей смертью почил усопший, что его отравили.
…На следующее после похорон утро без стука в спальню к вдове, забывшейся тяжелым сном, вошел Ванька. Он уселся на край постели, подмигнул хитрым глазом и заговорщицки произнес:
— Сию пакость я сотворил исключительно ради чувств наших. Грех взял на свою душу. Теперь, барыня, ничто Эроту препятствиев не чинит.
— Ты что, дурак безмозглый, несешь? — изумленно воскликнула Анастасья. — Какой еще Эрот?
— Молвлю не ложно, — ощерился Ванька. — Теперя мы навсегда вместе. Для нас обоих я старался. Покойнику подсыпал…
Захлебнулась от гнева вдова, ладонью полоснула убийцу по морде:
— Пусть тебя, негодяй, лютая смерть постигнет!
Глаза убийцы нехорошо блеснули. Он криво усмехнулся:,
— Коли донесешь, так я на дыбе скажу, что сама меня научила старика мужа извести. Казнят тогда обоих.
Застонала Анастасья:
— Я не донесу, но будь ты проклят и пусть тебя постигнет кара Божья!
Ванька направился к дверям, на ходу пробормотал:
— Так-то лучше! Но я к тебе еще приду, ты меня сделай своим полюбовником. Иначе сам погибну, но и тебя погублю. Ауфвидерзейн!
И вновь, уткнувшись в подушку, рыдала молодая вдова. У нее не достало сил разорвать ту паутину, в которую вовлек отравитель.
После похорон прошло две недели. 9 сентября 1777 года Екатерина Великая прибыла в Петербург из Царского Села. В тот день задул ураган-ный западный ветер. С моря гнало воду в Неву, и она поднялась на 10 футов, т.е. более чем на три метра. Свидетель этого печального события писал: «От сего наводнения водою был залит весь город, освобождены были токмо Литейная и Выборгская части города… По всем почти улицам, даже и по Невской перспективе ездили на маленьких шлюпках. Небольшой купеческий корабль проплыл мимо Зимнего дворца, прямо через каменную набережную. Польский корабль, груженный яблоками, был занесен в лес, находящийся на Васильевском острове».
…Именно этот корабль увидала поутру в свое окно Анастасья. Вода плескалась возле стен ее дома. Затопление было всеобщим. Вдруг вдова, не веря глазам своим, с ужасом закричала:
— Что это? Не может быть! Страсть какая…
Возле крыльца плавал… гроб. Тот самый, что заключал останки Данилы Матвеевича. Анастасья позвала Глашку и Лушку. С их помощью гроб подняли на крыльцо.
И тут же вода пошла на убыль. Часа через три, т.е. в самый полдень, наводнение почти полностью схлынуло.
Вдову навестил Александр Петрович Сумароков. Болезнь помешала ему присутствовать на похоронах. Он собирался уезжать в Москву, но, прослышав о необыкновенном случае с гробом, зашел навестить Анастасью, утешить ее и отдать краткую эпитафию — для высечения на надгробном памятнике:
Под камнем сим лежит мой муж. Ко мне он не вернется уж.
Эпитафия содержала некий намек.
Вдова, питая полное доверие к замечательному человеку, рассказала ему всю историю, ничего не утаив. И при этом добавила:
— В случившемся усматриваю волю мужа, дабы виновник его злой кончины получил должное возмездие. Дайте знать, Александр Петрович, о лиходее тому, кому положено сие по службе.
На другой день поэт отъехал в Москву, но перед тем поведал о происшествии фельдмаршалу Голицыну. Тот, не разобравшись в сути дела, приказал арестовать и Ваньку-повара, и безвинную вдову. Так они оба оказались в каземате.
Но истина все ж восторжествовала. Когда Голицын довел до сведения императрицы о столь необычном случае, как приплытие гроба к крыльцу дома, где было совершено злодейство, и назвал фамилию Анастасии Семеновой, та упрекнула князя:
— Почто ты забыл юную прелестницу, с которой танцевал в Смольном дворце? Такая не могла совершить столь бесчеловечный поступок.
Анастасия была в тот же день освобождена и вознаграждена за претерпение безвинных страданий: Екатерина подарила вдове свой миниатюрный портрет.
Ванька был порот и навечно отправлен в Сибирь.
Поэт Сумароков уже 1 октября того же, 1777 года скончался в Москве. Его эпитафия была выбита на граните надгробия Данилы Матвеевича, своевременно вновь похороненного и к вдове, действительно, больше никогда не возвращавшегося.
Голицын, желая доставить приятность императрице, предлагал ей сделать такие водяные фонтаны, кои в случае нового наводнения выбрасывали бы влагу до самого неба и рассеивались в тучах. Из этих фантазий ничего не осуществилось. Зато той же осенью великий Гваренги закончил сооружать чудные решетки у Летнего сада. Они были позолочены и вызывали всеобщий восторг.
Это преступление в свое время взбудоражило не только всю курскую губернию, но и дошло до самых высших государственных кругов. Даже Александр Николаевич изволил обратить свое монаршье внимание на случившееся. Он устроил нахлобучку чинам полиции, а министру Императорского Двора графу Владимиру Федоровичу Адлербергу сказал, глубоко вздохнув: «Русский человек, думаю, правильно говорит: „Бывает рок, что вилами в бок!“
И то сказать: от своей судьбы далеко не убежишь.
Матвейка Фролов с раннего возраста ощущал сильное влечение к лошадям. Конюхи поначалу гоняли его, ругались: «Чего, мол, тут, малец, крутишься? Вдарит лошадь копытом, тогда узнаешь!» Но Матвей — мальчишка настырный. Его в одни двери гонят, а он, шельмец, уже в другие лезет. Так и махнули рукой, тем более что мальчишка усердно норовил помогать: то навоз из денников уберет, то воды принесет, то лошадь скребницей вычистит.
Будучи переимчивым, к семнадцати годам он научился копыта расчищать, кровь лошадям и скотине бросать, насосы спускать. Мази собственного изобретения приготовлял, которые хвори лошадиные как рукой снимали.
Слава про Матвея пошла. Стали его наперебой крестьяне приглашать, заработки начались хорошие. Оно и кстати, ибо после смерти отца в 1851 году у него на руках оказалось четверо меньших братишек и сестренка: всех одеть-обуть надо, а матери одной не справиться.
Но настоящее счастье привалило после следующего случая. В деревне Рядново, где жил Матвей, приказчиком был пятидесятилетний мужик по имени Федул Парамонович, а по кличке Генерал. Деревенские так прозвали его за высоченный рост, осанистую фигуру и зычный, прямо-таки трубный голос. Завидя как-то Матвея, он поманил пальцем:
— Иди-ка сюда, раб Божий! Уж очень много о тебе разговору идет, будто ты коновал умелый. Посмотри моего коняку. Что-то стал он на левую ногу припадать.
— Вы б показали болезнь дяде Леонтию… Леонтием был барский кучер, который брался лечить любые болезни — что у людей, что у скотины. После его лечения пациенты порой выздоравливали, а порой заболевали еще больше или вовсе помирали. Но сельский люд все равно шел к Леонтию, который лечил по наитию, то есть скверно, но любил эту свою деятельность и корысть имел немалую.
Приказчик не любил Леонтия и пользовался каждым случаем, чтобы выставить того в невыгодном свете. Вот и теперь Генерал презрительно усмехнулся: