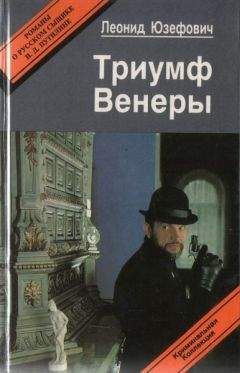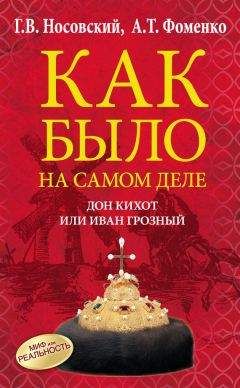— Совсем себе желудок испортил, — огорчилась жена. — Бегаешь допоздна, не думаешь о своем здоровье.
— Я думаю.
— Нет, не думаешь. А если ты не думаешь о здоровье, значит, не думаешь о нас с Ванечкой. Что-нибудь с тобой случится, как мы будем жить без тебя? Женился, сына родил, будь добр думать о своем желудке, это твой долг передо мной и Ванечкой.
Иван Дмитриевич не возражал, слушал, против обыкновения, покорно.
— Скоро начнут убирать посуду, — предрекла жена.
Ее, видимо, посвятили в диспозицию сегодняшнего обеда, и она гордилась оказанным ей доверием.
— Уберут, потом подадут вино и сладости. Ты, пожалуйста, не пей и не ешь, сладкое тебе вредно для желудка, но возьми пару пирожных для Ванечки. Я бы сама взяла, но меня Шарлотта Генриховна просила помочь распорядиться, так что я не могу
— Почему? — не понял он.
— Потому что мне доверили, и получится, будто я пользуюсь своим положением.
Одно радовало: за этими заботами жена забыла и думать о баронессе.
Она подошла к сестре Шарлотты Генриховны, к ним присоединилась Нина Александровна, и все трое стали что-то горячо обсуждать, указывая в разные точки стола. Они, вероятно, вырабатывали стратегию предстоящей операции: торт — на правый флаг, редуты из эклеров — по центру, слева прикрыть позиции яблочным пирогом, наливочки пустить вперед, чтобы завязали сражение, а затем уж подтянуть главные силы — мадеру, шампанское, после чего обрушить на противника брусничную воду с вареньем. Самовар и сахарницы оставить в резерве.
Зайцева сунулась было к ним с указанием на какие-то их тактические просчеты, но ее советы остались без внимания.
Из всех присутствующих лишь Иван Дмитриевич знал, что эти стройные планы будут спутаны и не то что до чая, а и до брусничной воды дело не дойдет.
Заметив, что рядом с Зеленским освободилось место, он подсел к нему.
— Сергей Богданович, мой сын из-за вас вчера целый день плакал. И позавчера не мог уснуть.
— Из-за меня?
— Позавчера вы заходили в детскую, случайно заметили в коробке, не удержались и украли… сами знаете что.
Зеленский слабо трепыхнулся:
— Что?
— Вы знаете… А вечером смазали медом и прилепили мне на дверь.
Зеленский молчал. Его рука дрожала, зажатая в ней вилка выбивала дробь о край тарелки.
— Возле подъезда, — продолжал Иван Дмитриевич, — стоял Зайцев, и он бы вас увидел, если бы вы прошли по улице. Но из вашего подъезда в наш есть и другая дорога. Вы пробрались через чердак.
Мысль об этом явилась ночью, когда Иван Дмитриевич увидел свет в чердачном окне и понял, почему баронесса сошла к нему на площадку сверху со свечою в руке; она проделала тот же путь, что и Зеленский за несколько часов до нее. По улице, видимо, идти побоялась, чтобы не попасться на глаза кому-нибудь из соседей. Но не нацарапай Ванечка гвоздем на своей штучке, догадка так бы и осталась без применения. Кроме Зеленского, который в тот день побывал в детской, украсть жетончик было некому. Не считая, разумеется, жены, но с нее Иван Дмитриевич давно снял подозрения.
Вилка звенела все громче, он взял ее у Зеленского и положил на скатерть.
— Вы ходили по краю пропасти, Сергей Богданович, и дьявол нашептывал вам: прыгай, прыгай, не разобьешься. Наконец вы прыгнули. И что теперь? Впрочем, вы с самого начала пытались обмануть меня. Каллисто, Ликаон… Скажи мне кто-то другой, я бы лишь посмеялся, но у вас все выглядело вполне правдоподобно. Я чуть было не попался. Но хорошего помаленьку, вы явно перестарались. Не стоило пугать меня сорока девятью братцами, тут вы дали маху… Вам, кстати, известно, что Марфа Никитична жива?
— Я его не убивал, — тихо сказал Зеленский.
— Знаю. Но вы знаете имя убийцы, а я — нет, — соврал Иван Дмитриевич.
— Думаете, я вам скажу? Никогда! Можете засадить меня в крепость, бить кнутом, сослать в Сибирь, ее имени я вам не назову.
— Вот вы и проговорились, — улыбнулся Иван Дмитриевич, — Выходит, убийца — женщина?
Зеленский растерялся, но тут же ответил спокойно и твердо:
— Что ж, тем понятнее будут причины моего упрямства… Я люблю эту женщину.
— А она вас?
— Тоже. Но не надейтесь что-нибудь разнюхать. В целом свете ни одна душа не знает о нашей любви.
— Эта женщина… Случаем, Якова Семеновича она не любила?
— Раньше — да, любила. Потом возненавидела. Это извращенный, мерзкий человек, и он заслужил свою участь. Вы ведь, наверное, так и не знаете, что означает надпись на этом чудовищном жетоне.
— А вы знаете?
— К несчастью.
— И можете мне объяснить?
— Давайте выйдем из-за стола, — предложил Зеленский.
В гостиной он подошел к окну, растворил его и с наслаждением вдохнул влажный вечерний воздух. Начинало темнеть, дул ветер. Занавеска вздулась горбом, зашелестела, струясь по подоконнику.
— Замечали, — спросил Зеленский, — как странно и глубоко действует на нас шум ночного ветра? В нем есть обещание.
— Обещание чего?
— Всего, о чем мечтаешь в юности. В родительском доме окно моей комнаты выходило в сад, вечерами я сидел за книгой, и всякий раз, едва порыв ветра касался листвы, сердце у меня сжималось предчувствием счастья. Всю жизнь я считал себя обманутым, но, представьте себе, сбылось. Оказывается, тот ветер обещал мне позднюю любовь.
— К вашей ровеснице? — напомнил Иван Дмитриевич.
— Теперь те же чувства пробуждает у меня дыхание любимой женщины, когда она засыпает на моем плече и дышит мне в ухо.
— И когда в «Аркадии» вы заснули под этот блаженный шум, а потом проснулись, то с удивлением обнаружили, что вашей возлюбленной рядом нет. Не так ли? Вам, само собой, в голову не могло прийти, что она в одну ночь назначила свидание двоим. Причем в одном и том же месте.
Зеленский смотрел в окно и не отвечал.
— Вы бросились в коридор и вдруг увидели ее выходящей из соседнего номера. Что было дальше, могу лишь догадываться. Может быть, вы потребовали объяснений и получили их тогда же. Но не исключено, что вы все поняли только на следующий день, уже после того, как услышали о смерти Якова Семеновича. И, надо думать, вы нашли случай потолковать с вашей подругой, и она сказала, для чего ей понадобилось подбросить покойному этот жетончик.
— Она вернула ему его же подарок, вот и все, — не поворачиваясь, ответил Зеленский, — Если бы Куколев не сделал ей этого подарка, он бы остался жив.
— Что-то я не улавливаю связи, — признался Иван Дмитриевич.
— Когда-то она любила его, а он ее унизил, надругался над ней. Она поняла это, когда полюбила меня, и решила отомстить, чтобы почувствовать себя достойной нашей любви. Она сама мне рассказала той ночью, и я верю ей.
— Боюсь, мне придется поколебать вашу уверенность.
— Других причин убивать его у нее не было.
— Значит, из-за жетончика? — уточнил Иван Дмитриевич.
— Из-за нашей любви. То, что она сделала, ужасно, я даже не знаю, смогу ли теперь любить ее, как прежде, но понять… Понять могу. Она должна была очиститься передо мной.
— И она вам так сказала?
— Да.
— Но жетончик-то при чем?
— В нем, — с ненавистью проговорил Зеленский, — вся дьявольская тьма и мерзость похоти, не просветленной любовью. Это бесовский талисман, он способен сделать женщину рабой собственной плоти, превратить ее в животное… Трудно объяснить, вам ведь не известен смысл надписи.
— Так говорите же, наконец!
— Я не знаю, откуда вы взяли еще один такой же жетон, но мой вам совет: выбросьте их оба. Они принесут вам несчастье.
— ЗНАК СЕМИ ЗВЕЗД ОТКРОЕТ ВРАТА, — сказал Иван Дмитриевич. — Я жду.
Зеленский закрыл окно.
— Этот ветер сведет меня с ума!
— Вы скажете или нет?
— Скажу… Иначе мне вас не убедить.
Чтобы Зеленский мог без опаски поделиться новостями со своей возлюбленной, Иван Дмитриевич сказал ему, что на четверть часа заглянет домой, навестит сына и вернется. Это входило в его планы — дать им возможность поговорить на свободе. Что касается дальнейшего, тут уж как Сатана ей в сердце вложит, не угадаешь. Хотя было чувство, что вложит именно то, о чем думалось. Дьявол, конечно, хитер, но Иван Дмитриевич знал про себя, что по этой части он ему не уступит.
Он вышел на лестницу, раскурил трубку.
Как многие русские люди, Иван Дмитриевич не любил подъездов. Даже свой собственный не вызывал в нем никаких приятных воспоминаний. Дым родного очага не достигал дна каменного колодца, где он стоял сейчас, а табачный здесь казался горьким, от него першило в горле. Подъезд был не преддверием дома, не продолжением порога, не предвратным укреплением при въезде в цитадель частной жизни, а всего лишь пустынной ничейной землей между квартирой и улицей. Стоять было холодно и неуютно, тем не менее он ждал, поглядывая на часы, пока не счел, что дал Зеленскому достаточно времени, чтобы поговорить со своей возлюбленной, а ей — чтобы все осмыслить и принять роковое решение. Едва ли эта гадина поверит, что Зеленский готов пойти на каторгу, но не выдать ее. Сам-то Иван Дмитриевич верил, что бедный латинист действительно способен принести себя в жертву. Слава Богу, не понадобится!