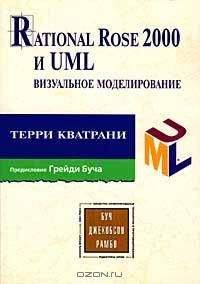— Мона Миза, можно я не буду повторять того, что мне велел передать вам тот синьор? — взмолился парень, собирая брови домиком и отдавая ей большой холщовый пакет, покрытый пылью и кое-как отчищенный от паутины.
Прижав к груди свое сокровище, Миза вернулась в мастерскую. Она уже знала, что найдет в этом свертке.
Все ее наброски, которые когда-то выгребла из тайника и спрятала от глаз дознавателей обозленная Роберта, теперь легли перед нею. Совсем еще юные, живые Абра и Сандро — смеются, дурачатся, окруженные альраунами, обнимаются, стоя или сидя перед нею. Алиссандро, наигрывающий им на китарроне, а вот он, совсем еще мальчишка, на ее смешных, полных ошибок набросках из амбара. И ее любимая — слуга с кошкой на коленях, в профиль, увлеченный игрой с когтистой лапой лениво огрызающегося зверя. «Вот ты такая же, как мона Миза! — корил его Сандро, поддразнивая хозяйку. — Хвостом лупишь, а с коленей не слезаешь! Эй, да что я такого сказал, мона Миза?! Ладно, я молчу, молчу!»
Закусив губу добела, Эртемиза прикрепила обтрепавшуюся от времени и переездов бумагу вокруг мольберта, и теперь любимые лица друзей смотрели на нее в перевес гнусным рожам ненавистных альраунов, что повылезали из стен. Молча схватила бутылку с лаком и, плеснув прямо на холст, разогнала вязкую прозрачную жидкость по всему полотну. Алиссандро хитро улыбался, готовый сию секунду подмигнуть. Абра с простодушным кокетством пожимала плечом.
«Чего в ней не хватает по сравнению с той, первой?»
«Может быть… отчаяния?..»
Несколько стремительных, жестикулятивных мазков по уже готовому изображению.
Удивленный взгляд мальчишки-слуги на их самом первом, оплаченном ею тремя кваттрино, наброске, а в темных глазах — вопрос: «Что я здесь делаю?!»
Дальше, дальше — уже по памяти, без натурщиков, без подсказок отца, на волне своей боли, торопливо, как будто дышит в спину вся свора Аннуина из сказки Фиоренцы. Allegro! Allegro! И лишь пока танцуешь — живешь. Лишь пока танцуешь ты возле своего мольберта отчаянную гальярду, предводитель Дикой охоты не выпустит стрелу из арбалета ни в тебя, ни в кого-то из тех, кого ты любишь. Presto! Presto!
Заходясь в агонии, с какой уходил из этого мира Сандро. Сжимаясь в агонии, с которой давала Абра жизнь своему сыну. Пытаясь вырваться из агонии, нахлынувшей с кинжальной болью в боку, вырваться и догнать проклятую фелуку… И ничего больше не видеть, не слышать и не чувствовать, кроме всеохватывающей агонии творения. Ты есть начало, ты же есть и финал всего!
Presto!
Она открыла глаза. Кисть выскользнула из перемазанных краской пальцев. Изо рта шел пар, но Миза не ощущала ничего. Ни-че-го.
Над нею высились три фигуры.
Некрасивая, грузная женщина средних лет в золотистом платье и с ее браслетом на руке. В холодной, продуманной ярости наваливается она сбоку от жертвы, мечом кромсая его шею.
Роберта.
Молодая, темноволосая, в одежде служанки и в косынке, сосредоточенно, а вовсе не так весело, как на Мизиных набросках, где они баловались с Сандро, перехватывает руки умерщвляемого врага. Она-то знает, что если сейчас они дадут слабину, мученическая смерть ждет и ее, и хозяйку.
Амбретта.
Страшный, заросший бородой, с закатившимися глазами, брызжущий кровью из рассеченной шеи. Ненавистный. «Даже пес не пошевелит против тебя языком своим!» — крикнула коварная Юдифь Олоферну, когда заманивала его в ловушку.
Аугусто Тацци.
И как подкошенная, без сил, Эртемиза повалилась под мольберт, прямо на пол.
— Больше тебя не побеспокоят ни они, ни он, — объявляясь в ее тягучем темном сне, освещенный сбоку единственной, но яркой лампадой, пообещал мессер да Караваджо и указал сначала на химер, а после — на ее браслет. — Ни я.
Эртемиза с готовностью сняла со своей руки дар Охотницы и протянула его мертвому художнику.
— Нет, — ответил Меризи, избегая прикосновения, — пусть теперь он остается у тебя. Когда-нибудь ты сама передашь его тому, кого изберешь. Если будет такое желание. А теперь спи, моя хорошая!
Увидев ее поутру лежащей на полу в выстуженной мастерской, Шеффре перенес Мизу в спальню и закутал одеялом, а когда она приоткрыла мутные глаза, поцеловал в блеснувший первой серебристой паутинкой висок:
— Спи, спи!
Она проспала двое суток и проснулась лишь от голода. Узнав о том, что хозяйка встала и позавтракала, в столовую вбежали Джанкарло и Беттино. «Синьора! Мона Миза! Вы должны это увидеть!» — наперебой загомонили парни.
Запряженная повозка быстро доставила их на кладбище, и Эртемиза не узнала могилы своих покойных слуг. Посреди ледяной зимы та стояла, заваленная горой свежих цветов. Джанкарло покосился на хозяйку, Беттино схватился за голову со словами «Святый и правый, теперь их стало еще больше!», Миза медленно прикрыла рот ладонью.
— Это то, что имел в виду твой муж, не советуя афишировать место захоронения? — спросила она Ассанту через несколько дней, когда они на карете маркизов Антинори свернули к погосту и еще издалека разглядели захоронение, затерянное в пламенном море осыпающихся на морозе лепестков.
— Ну а чего ты ожидала в отношении того, кто столько лет держал за яйца всех тосканских извращенцев? — в своей беззастенчивой манере откликнулась монастырская подруга юности.
Глава четырнадцатая Город туманов
Шесть лет спустя, двадцать седьмого марта 1625 года.
Когда до казни остается какой-то жалкий час, весь мир сжимается до пяти шагов вдоль и двух поперек, теснясь в твоем последнем пристанище — камере для смертников…
Пепе навострил уши, а сердце заколотилось, как шальное.
За дверью послышался звон ключей и скрежет отпираемого замка. Английская стража традиционно пунктуальна: ни минутой раньше, ни минутой позже положенного срока явились тюремщики по душу бродяги Пепе-Растяпы. Цыган мелко затрясся и вдруг, освобожденный от кандалов, в истерическом порыве отплясал вприсядку по темнице, чем изрядно повеселил удивившихся поначалу стражников.
— Ну пошел, пошел! — посмеиваясь, поторопили они его. — Тайбернское дерево пустовать не любит.
Утренний Лондон заволокло холодным туманом.
Процессия выдвинулась из тюрьмы Ньюгейт по известному горожанам маршруту, и повозки с Растяпой, а также еще двадцатью везунчиками нещадно забрасывали тухлыми отбросами, а из окон поливали помоями. Думая о виселице, Пепе позабыл уже и о похищенной когда-то девочке в венецианском квартале, и о костерившей его на чем свет стоит тетке Росарии, и о прочих сородичах, всю жизнь пытавшихся научить его уму-разуму, но так и не преуспевших в этом благом занятии.
За городом промозглый туман понемногу рассеивался. В Тайберне уже вовсю готовились к представлению, торговцы суетились у своих прилавков, а зеваки на разные лады острили и делали ставки, чей висельник спляшет веселее в матушке-петле.
На Тайберн-роуд с повозкой Пепе поравнялся всадник. Сидевший на тонконогом вороном жеребце мужчина лет тридцати пяти — сорока на вид старался не смотреть на приговоренных и поскорее разминуться с жуткой процессией и все же, огибая третий обоз, где везли Растяпу, неожиданно встретился с цыганом взглядом. Глаза его вдруг потеряли присущий им синий цвет и сделались пустыми, как белесый лондонский туман. «Это, видать, лунный бог Алако[46] его глазами посмотрел на меня сейчас!» — подумал тогда Пепе, но всадник толкнул шпорами бока коня и проскакал мимо, в сторону города, лишь дрогнули перья на шляпе да короткий дорожный плащ взметнулся за спиною напоследок, словно бы с пренебрежением отпуская смертнику грехи.
Устроенная из трех соединенных вершинами балок, виселица поджидала своих гостей. Еще немного подразнят разгоряченную ожиданием публику — и в петлях-плодоножках древа смерти созреет новый урожай. «Ведь накаркала мне, старая ведьма!» — недобрым словом помянул Растяпа давно уже почившую тетку.
Было сыро и холодно, как всегда в этих краях.
По устоявшемуся обычаю всем приговоренным надели на головы колпаки. Пепе получил такой, что не возникло ни малейшего сомнения: эти уборы передают по наследству так же, как королевскую корону, да и снимают подчас вместе с головой…
Цыган попал в первую семерку взошедших на эшафот, и тут толпа заколыхалась, расступаясь перед несколькими конниками, однако неожиданные изменения в сценарии казни пришлись публике по вкусу. Оживление зрителей росло по мере того, как лошади, расшвыривая грудью самых медлительных зевак, прокладывали себе дорогу. Так медленно и неуклонно движется в бурном море военная флотилия.
Один из богато разодетых всадников спешился и взбежал по ступенькам к палачу у виселицы.
— В честь коронации его величества, отныне божьей волей короля Англии, Шотландии и Ирландии, Карла Стюарта нынче утром был подписан указ об амнистии всех, кого приговорили к казни сего дня! — зычным голосом провозгласил он на всю площадь, похлопывая себя свернутым в свиток документом по раструбу перчатки. — Повешение заменяется поркой с дальнейшим изгнанием из страны. Король умер — да здравствует новый король!