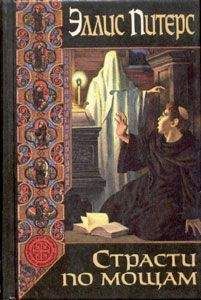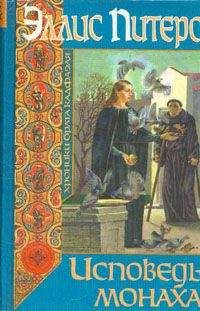— Сэр, — с укоризной в ломком, высоком голосе промолвил мальчуган, сердито постукивая пальчиком по рукояти меча. — Сэр, вы не находите, что, вступая в Божий храм, оружие следовало бы отложить в сторонку?
— Сэр, — ответил Кадфаэль в тон ему, столь же серьезно, хотя и с легкой улыбкой. — Я нахожу ваше замечание более чем справедливым. Видимо, вы правы, сэр.
И тут, повинуясь неожиданно пришедшему откуда-то изнутри порыву, Кадфаэль медленно расстегнул пояс и, шагнув вперед, положил меч на самую нижнюю из алтарных ступеней.
Там, у подножия алтаря, грозное оружие выглядело мирно и, что удивительно, вполне уместно. Что ни говори, а рукоять меча неспроста выполнена в форме креста.
Приор Хериберт сидел за столом в доме приходского священника и в окружении лучившихся счастьем братьев вкушал скромный монашеский ужин, когда ему доложили, что какой-то незнакомец просит его принять.
На поверку незнакомец оказался Кадфаэлем. Приор сразу же узнал своего избавителя и приветствовал его с теплотой и радушием.
— Это ты, сын мой! От всей души рад тебя видеть. Ты ведь был сегодня у вечерни, не так ли? То-то я гляжу: знакомая фигура, — сразу приметил тебя среди молящихся. Здесь ты самый желанный гость, и, если я или мои люди хоть чем-то можем отблагодарить тебя, только скажи, и мы сделаем все, что в наших силах.
В отрывистой валлийской манере Кадфаэль ответил Хериберту вопросом:
— Отец приор, завтра вы возвращаетесь в обитель, верно?
— Разумеется, сын мой. Мы отправимся в путь сразу после заутрени. Аббат Годефрид ждет не дождется вестей о том, чем завершилась тяжба.
— Так вот, святой отец! Ныне я расстался со службой, распростился с оружием и волен идти куда вздумается — хоть бы и начать жизнь заново. И я прошу вас, возьмите меня с собой.
Гамо из Лидэйта владел двумя приносившими не плохой доход манорами, расположенными в северо-восточной оконечности графства, поблизости от границы с Чеширом. Он был груб, невежествен, жестоко притеснял своих крестьян, но, несмотря на то, что всю жизнь предавался неумеренному пьянству, чревоугодию, распутству и прочим излишествам, здоровье имел отменное и до шестидесяти лет знать не знал, что такое хворь. Однако по достижении этого почтенного возраста Лидэйтского лорда хватил легкий удар, и, хотя он скоро оправился, случившееся заставило его задуматься о неизбежности перехода в иной мир.
Такого рода мысли, сами по себе невеселые, Фиц Гамона тревожили особо, ибо он имел все основания полагать, что тот, загробный мир, где всякому воздается по делам его, может обойтись с ним не в пример суровее, нежели земная юдоль. Он не жалел ни о чем, содеянном в прошлом, и не особо раскаивался, но все же понимал, что за ним числится немало таких поступков, какие небеса вполне могут счесть тяжкими прегрешениями. А поскольку вечные муки не могли не страшить его, он решил заранее обеспечить своей грешной душе влиятельное заступничество. Причем обеспечить таким образом, чтобы это обошлось ему как можно дешевле, ибо Фиц Гамон был не из тех, кто легко расстается со своим добром. Он искренне полагал, что для обретения его душой надежды на вечное блаженство всего-то и требуется, что сделать разумных размеров пожертвование в пользу святой церкви. Благо для этого ему не было нужды пускаться в паломничество или строить новый храм собственным иждивением, ибо совсем неподалеку, в Шрусбери, находилось Бенедиктинское аббатство.
Уж кто-кто, а братья из обители Святых Петра и Павла сумеют отмолить душу самого закоренелого грешника, а заручиться их молитвами можно ценой достаточно скромного даяния.
Мысль о том, чтобы напоказ одарить бедняков милостыней, посетившая его поначалу, была вскоре отброшена, ибо, по разумению Гамо, большой выгоды это не сулило. Сколько денег ни раздай всяческим оборванцам, они их проедят, да на этом все и забудется. Такое деяние и земной славы ему не добавит, и спасению души вряд ли поспособствует, потому как сомнительно, чтобы благословения нищих и голодранцев имели много весу на небесах. Он же хотел, чтобы слава о щедрости и набожности Гамо Фиц Гамона разнеслась повсюду, а потому не торопился и довольно долго взвешивал, прикидывал и оценивал возможные результаты, пока наконец не пришел к окончательному решению, каковое счел для себя наиболее выгодным. Придя же к нему, он направил в Шрусбери своего законника, дабы тот, проведя переговоры с аббатом и приором, как положено, в присутствии множества свидетелей составил и подписал грамоту о даровании алтарю Пресвятой Девы, что находится в церкви аббатства, годовой ренты, причитающейся ему, Гамо Фиц Гамону, в уплату за землю от одного из арендаторов.
Деньги эти надлежало употребить на то, чтобы над указанным алтарем в течение всего года неугасимо горели свечи. А дабы его неслыханная щедрость вызвала еще большее восхищение, он вдобавок обещал преподнести в дар еще и пару отменной работы серебряных подсвечников, каковые намеревался лично доставить в обитель, с тем, чтобы в его присутствии их торжественно водрузили на алтарь в самый канун Рождества.
Аббат Хериберт, который, несмотря на отнюдь не юный возраст и испытанные в прошлом горькие разочарования, все же придерживался о роде человеческом наилучшего мнения, был чуть ли не до слез растроган таким проявлением щедрости и благочестия. Приор Роберт, сам происходивший из знатного рода, по всей видимости, позволил себе усомниться в чистоте побуждений Гамо, но предпочел не высказывать свои сомнения вслух, дабы не бросать тень на нормандского лорда. Услышав новость, он лишь приподнял брови. Брат Кадфаэль прекрасно знал, какая слава шла о Гамо Фиц Гамоне, и к благим порывам такого рода людей относился более чем скептически, однако же он не был склонен к скоропалительным умозаключениям и предпочел до поры до времени воздержаться от вынесения каких-либо суждений.
Надобно дождаться приезда самого Гамо, поглядеть что к чему, тогда, глядишь, и станет ясно, что он за человек. Впрочем, прожив на свете пятьдесят пять лет и имея изрядный житейский опыт, Кадфаэль ничего особенного от людей не ждал.
В Сочельник, рано поутру, Гамо и его спутники въехали на большой монастырский двор. Брат Кадфаэль наблюдал за их прибытием несколько отстраненно, с не слишком уж сильным интересом.
Все предвещало, что Рождество тысяча сто тридцать пятого года будет холодным и суровым. С началом зимы ударили трескучие морозы, а снегу, как на грех, выпало мало, к тому же и восточный ветер дул не переставая, так что холод пробирал до костей. Да что там зима — весь год не задался. И лето было не в лето, и осень не в осень, а уж об урожае и говорить нечего — одни слезы. Люди по деревням замерзали и пухли от голода. Недород многих повыгонял из домов, заставив просить подаяние, и брат Освальд, ведавший в аббатстве раздачей милостыни, сострадая обездоленным, искренне сокрушался оттого, что не имел возможности помочь всем нуждающимся.
Появление укутанных в теплые плащи путников, ехавших на трех прекрасных верховых лошадях в сопровождении двух основательно навьюченных пони, не могло не привлечь внимания несчастных просителей, во множестве толпившихся у монастырских ворот. Они обступили новоприбывших, наперебой взывая о милосердии и умоляюще протягивая посиневшие от холода руки. Однако Фиц Гамон, небрежно бросив в толпу несколько мелких монет и не желая задерживаться из-за каких-то нищих, взялся за плеть, дабы расчистить себе дорогу.
«Видать, правду о нем говорят», — подумал брат Кадфаэль, остановившийся поглазеть на гостей по дороге в лазарет, куда он нес целебные снадобья для недужных.
Посреди двора рыцарь из Лидэйта спешился, и теперь его можно было рассмотреть получше. Это был рослый, грузный мужчина с густыми волосами, всклокоченной бородой и жесткими, словно проволока, бровями, некогда черными, а ныне изрядно поседевшими. Наверное, прежде он был очень недурен собой, но потворство неумеренным и низменным желаниям не могло не сказаться на его внешности. С годами щеки Гамо побагровели, кожа стала бугристой и шероховатой, а все еще острые черные глаза утонули в глубоких, дряблых мешках. Он выглядел гораздо старше своих лет, но и при этом производил впечатление человека, с которым следует считаться.
Вторая лошадь несла супругу Фиц Гамона, сидевшую на седельной подушке за спиной конюха. Ее маленькая фигурка, плотно укутанная в меха, была почти не различима. Ехала она удобно прислонясь к широкой спине конюха и обхватив его руками за талию. А конюх, надо сказать, был очень даже пригож — статный, румяный малый лет двадцати, длинноногий, широкоплечий, с круглым, простодушным лицом и веселыми глазами. Ладный молодец, к тому же расторопный и услужливый, судя по тому, как ловко, одним прыжком соскочил он с седла и, приподнявшись на цыпочки, подхватил свою госпожу за талию так же крепко, как за мгновение до того она держала его, и, сняв с подушки, легко поставил на землю. Ее маленькие ручки в теплых перчатках задержались на его плечах на миг — всего лишь только на миг, — но дольше, чем это было необходимо. Он же, со своей стороны, почтительно поддерживал ее до тех пор, пока ноги ее не обрели устойчивость на твердой земле, — а возможно, и несколько секунд после того. Фиц Гамон на них не смотрел: он с самодовольным видом принимал знаки внимания со стороны приора Роберта и брата попечителя странноприимного дома, который уже распорядился отвести новоприбывшим — лорду и его супруге — самые лучшие комнаты.