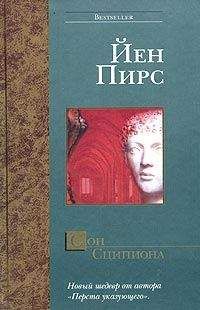— Уходите из города теперь же. Не возвращайтесь домой и не заходите в другие места, где живут евреи, пока не убедитесь, что это безопасно. — Он сказал это коротко, без подробностей, так как знал, что если заговорит с ней, как следовало бы, то уже не сможет остановиться.
— Но разве ты не уйдешь с нами? Ты должен.
— У меня тут дела.
— Какие?
Он пожал плечами:
— Важные. Дела, которые вас не касаются. Мне хотелось бы, но я не могу. А вы должны. Оставаться здесь слишком опасно.
— Нет, — сказала она. — Тебе тоже нужно уходить.
Он повернулся к Герсониду, ждавшему не менее терпеливо, чем осел, терпящий его вес.
— Почтеннейший, — воззвал он, — вели ей уйти с тобой.
— Думаю, так будет лучше, милая, — мягко сказал старик. — Покончив с делами, Оливье, без сомнения, нас догонит. — Поглядев на Оливье, он понял: что бы юноша ни задумал, на это шансов мало.
— Ну конечно, — сказал Оливье твердо, потом подошел к старику и заговорил с ним вполголоса: — Ты позаботишься о том, чтобы она осталась с тобой и сюда не вернулась?
— Конечно. Думаю, поддельную еврейку убить не труднее, чем настоящую.
— Я не могу попрощаться с ней как следует.
Старик кивнул:
— Пожалуй, нет.
— Прощай, почтеннейший. — Оливье улыбнулся. — Думаю, тебе ясно, сколь высоко я ценю наше знакомство.
— Нет. Но я стану утешать себя догадками до твоего возвращения.
Глубоко вздохнув, Оливье поклонился на прощание. Герсонид кивнул в ответ, но тут же вспомнил что-то еще.
— Да. Та рукопись, которую ты мне принес. Написанная епископом. В ней утверждается, что понимание важнее деяния. Что поступок добродетелен тогда, когда отражает чистое понимание, и будто добродетель происходит из понимания, а не из поступка.
— И?.. — нахмурился Оливье.
— Я открою тебе один секрет, милый мальчик.
— Какой?
— Я считаю, это неверно.
Разумеется, Жюльен не смог заснуть, на это не было и надежды. Он только мерил шагами квартиру, такую красивую и обычно такую удобную, но не находил ни отдыха, ни отдохновения. Нет, он ни о чем не думал. С того момента, когда он услышал об аресте Юлии, он был словно в глухом тумане, который никак не развеивался. Он ни о чем не думал, ничего не чувствовал. Он поймал себя на том, что его взгляд то и дело возвращается к четырем картинам, которые она ему подарила с такой гордостью, с таким обещанием будущего. Она свою проблему решила, он же не сумел найти ответов на свою, а поплатилась за это она. Понимание, каким бы оно ни было, пришло только тогда, когда ее увезли. Разумеется, Марсель был прав: точно так же, как Пизано превратил слепца и святую — Манлия и Софию, как думал теперь Жюльен, — в Оливье и его возлюбленную, Юлия нашла свое решение, продолжив то, что некогда сделал итальянский мастер, и трансформировав их в себя и Жюльена. Портрет-триптих на одну и ту же тему: заставить прозреть слепца.
Он поглядел в окно, надеясь, что повседневная суета и толчея его отвлекут, но город как вымер. Не было прохожих, спешащих куда-то по своим делам, почти все магазины закрыты. Машина только одна. Водитель покуривал, прислонясь к капоту. «И откуда у него сигареты?» — удивился Жюльен. Потом присмотрелся внимательнее и понял.
У дружбы есть свои пределы. Марсель приставил к нему полицейских, чтобы помешать ему бежать и предупредить Бернара. Он снова станет соучастником убийства. И тут он очнулся, физически почувствовал, как заработала его мысль, когда он осознал, что происходит. Он не успел вовремя на вокзал, не сумел сделать ничего, чтобы спасти Юлию. Но он хотя бы может не смириться и с этим тоже.
Собрался он быстро: переоделся, надел крепкие башмаки, съел то немногое, что нашлось на кухне, — несколько оливок, кусок черствого хлеба, помидор, ломтик сыра. Все валялось тут больше недели и было едва съедобным. Запил стаканом вина, почти уже скисшего, и даже подумал, что никогда еще не ел ничего омерзительнее.
Потом он вышел из квартиры и спустился во дворик, отделенный от дома позади высокой каменной оградой. Слишком высокой, просто так не перелезть. Он пошел к консьержке и попросил у нее стул.
— Я перелезу через стену и выйду на соседнюю улицу. Снаружи дежурит полицейский. Окажите мне услугу. Если он спросит обо мне, скажите, что я поднялся к себе и лег спать. Скажите, что я больше не спускался и что вы меня с тех пор не видели. Хорошо?
Подмигнув, консьержка кивнула. Жюльен знал, что ее покойный муж много лет сидел в тюрьме за ограбление. У нее самой было немало неприятностей с полицией, и она едва не лишилась места, когда один из жильцов узнал про судимость ее мужа. Жюльен тогда за нее вступился. Разве сама она в чем-то виновата? Так оставьте ее в покое. Она об этом знала и была ему благодарна.
— Хорошего взломщика из вас никогда не выйдет, мсье Жюльен, если вы это задумали. Лучше бросьте, пока не попали в беду. Некоторые для этого просто не годятся. Вот и мой Робер тоже, так что я-то знаю.
Он улыбнулся.
— Буду иметь в виду. Ну, мне лучше идти.
— Не беспокойтесь, я вас не видела. И с полицейскими ни о чем говорить не стану. Вот уж нет. Не терплю их.
Он кивнул и перебрался через ограду, причем так неуклюже, что, упав на землю по ту сторону, услышал саркастический смешок.
За ворота Авиньона он вышел, когда начало садиться солнце, и упорно шагал по шоссе, пока сгущались сумерки. До Карпентраса он добрался около часа ночи и подумал было, не остановиться ли ему передохнуть, прилечь где-нибудь на пару часов, но продолжал идти. Он достаточно проспал в своей жизни и больше в сне не нуждался. А потому он свернул на север и оказался у холма с часовней Святой Софии.
Идти домой было еще слишком рано: раньше полудня Бернар не появится. Поэтому он поднялся на холм и укрылся там, где была так счастлива Юлия. Когда он поднялся туда и увидел часовню в крохотной рощице, он, кроме того, увидел то, что оставила там Юлия в свой последний приход: пачку листов, консервную банку, в которой она мыла кисти, шарф, которым она обматывала голову от солнца. Жюльен поднял его, пощупал, поднес к лицу и в последний раз вдохнул ее запах. И этот запах сломал его: на вокзале, разговаривая с Марселем, у себя в квартире он еще сдерживался. Тогда он еще владел собой. Теперь уже нет. Он упал в траву, содрогаясь всем телом, теряя от горя способность думать.
И только жар все выше поднимавшегося солнца и сознание того, что время уходит, вынудили его очнуться. Но когда он наконец встал, он уже смирился с тем, что она не вернется, что он больше никогда ее не увидит.
Он вошел в часовню посмотреть на панно, которые она изучала, и увидел их ее глазами. Он глядел на слепца и Софию — ее жест так нежен, его так чуток — и вновь увидел, как Юлия их перевоплотила. Она слилась со старой росписью, ее личность растворилась в ней, и
там она обрела свободу. Бессмертие души — в ее растворении. Загадочные слова, которые поставили в тупик Оливье де Нуайена и в которых Жюльен усмотрел всего лишь доказательство существования некой философской школы. Об истории этой школы он знал все, но Юлия поняла ее смысл. Эта мысль его почему-то утешила: Юлия как будто постигла все, чему София пыталась и не сумела научить Манлия и чего никогда не понимал он сам.
Становилось ли от этого лучше? Уменьшало ли ужас ее испытаний? Или то, как он внес в них свой вклад? Конечно, нет. Этого ничто облегчить не в силах. Она — в эшелоне, во власти чудовищ, и пока ее везут на смерть, он разглядывает росписи. Жюльена охватило ощущение полнейшего бессилия. Все, что он когда-либо передумал или узнал, все его вкусы и утонченность исчезли, развеялись под тяжестью одного-единственного факта: ее увезли, и он не мог ни предотвратить, ни изменить что-либо в том, что должно было случиться.
Оливье восстал против великих идей во имя малой человечности и освятил ее своим страданием. Жюльен не сумел даже этого. Его жизнь была уже кончена, а с ней кончилась возможность совершить что-то стоящее. Ему уже ничего не осталось — только показать, что он хотя бы понял, как ошибался, и надеяться, что кто-нибудь в свой черед поймет его.
Бережно закрыв за собой дверь часовни, он вдохнул теплый воздух, такой свежий после легкой затхлости старых стен, и начал спускаться с холма.
Феликс уехал в тот же вечер. Его свита тряслась по нечиненым дорогам, немногие солдаты высматривали разбойников, чьи набеги становились все более дерзкими. Феликс торопился, ведь до выступления против Манлия надо было многое успеть. Созвать сторонников, произвести смотр воинам, ибо он не сомневался в неизбежности сражения и сожалел об этом, но полагал, что иного выбора у него нет. Один из них должен пасть: только один может выйти победителем, ведь ставки слишком высоки для компромиссов.
Миль через десять они остановились у речки, чтобы напоить лошадей. Вот тут-то на них и напали. Нападавших было человек шесть, впрочем, поскольку никто не спасся, это число — домысел. Феликс погиб последним, его голова была отрублена таким ударом, что, скатившись по пологому склону, остановилась только в примулах у самой воды.