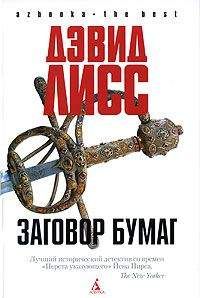Проникнуть в дом не составило никакого труда. В прошлом я проникал в дома бессчетное число раз, но сейчас, делая это ради правосудия, а не с целью ограбления, я испытывал восторг. Дом был больше, чем те, куда мне приходилось проникать прежде. В нем было четыре этажа и множество комнат, в которых могла спать моя жертва. Я пробирался по дому, стараясь не попасться на глаза слугам, которые двигались по коридорам, словно тени, размахивая свечами, будто призванными меня выловить.
Первая спальня, куда я проскользнул, явно была не его. Постель уже была занята. Увидев в темноте силуэт пожилой женщины и услышав, как она бормочет во сне, я вышел и проверил другую спальню. Я заглянул в четыре комнаты, прежде чем нашел еще одну спальню. На этот раз она была пуста, но я узнал камзол, висевший на крючке у двери. Я сел и стал ждать, надеясь, что он не будет кутить всю ночь и что он не уехал из Лондона. Чем скорее он придет, тем скорее исполнится правосудие.
У меня в кармане были песочные часы на полминуты, которые подарил мне бродячий торговец-тадеско. Перед самым выходом из дядиного дома мне пришло в голову взять их с собой. Мне понравилась идея, что подарок тадеско может найти применение. Если когда-нибудь я снова его увижу и расскажу, как его часы помогли мне, ему будет приятно.
Я переворачивал часы несколько раз, пока ждал в темноте. Стул, на котором я сидел, оказался на редкость жестким и неудобным, и у меня разболелось бедро, но я терпел боль, зная, что близок к разгадке. После того как Толстый Билли проболтался об украденных акциях и рассказал, кто украл их у старшего Бальфура, я ощутил радость успеха. Истинный смысл того, что узнал, я понял только позднее. До этого момента я был уверен лишь в существовании поддельных акций, теперь же я точно знал, что Бальфура убили из-за них. Возможно, я не понимал мотивов всех игроков в моей драме, но теперь в этом не было необходимости. Бальфура и моего отца убили, поскольку они хотели рассказать всем о поддельных акциях. Все, что мне было нужно, — это настоящее имя Рочестера.
Каждая минута в темной комнате тянулась бесконечно, но теперь я знал, что я делаю, и больше не блуждал бесцельно, и эта уверенность помогала мне терпеть. Я переворачивал часы. Смотрел, как сыплется песок, и снова переворачивал часы.
Он вернулся непоздно, не было еще и одиннадцати. Я услышал скрип ступеней и шарканье ног, когда он лениво поднимался по лестнице. Я слышал, как он что-то пробормотал, не то про себя, не то обращаясь к слуге, а потом он медленно и неуверенно повернул дверную ручку. В руке у него была свеча, и он зажег лампу на столике у двери. Комната осветилась мягким оранжевым светом, и, обернувшись, Бальфур увидел меня, сидящего на его стуле с пистолетом, нацеленным. прямо на него.
— Заприте дверь и подойдите поближе, — спокойно сказал я.
Он открыл рот, дабы что-то сказать, выразить свое возмущение, но, увидев мое лицо в тусклом свете свечи, не отважился. Я заранее отрепетировал особое выражение лица для него: холодное, жестокое, беспощадное. Он запер дверь и повернулся ко мне:
— Я вот думаю иногда, Бальфур: если бы человек был болваном — скажем, самым большим болваном, каких видел свет, — знал бы он о своем идиотизме или такой дурак не способен догадаться, что он дурак? Думаю, вы можете помочь мне разрешить эту загадку.
Нацеленный на него пистолет и безжалостное выражение моего лица заставили его проглотить язык, но вынести оскорбления он не мог.
— Уивер, я понятия не имею, что вы здесь делаете, но прошу вас прекратить это безобразие.
Песочные часы стояли на столике рядом со стулом, на котором я сидел. Не сводя глаз с Бальфура, я перевернул их левой рукой.
— У вас есть полминуты, — холодно сказал я, — чтобы назвать настоящее имя Мартина Рочестера, иначе я вас застрелю. Мне кажется, вы достаточно хорошо меня знаете, чтобы сомневаться в серьезности моих слов.
Я ожидал, что он окажется слабаком, но не думал, что до такой степени. Он рухнул на колени, словно у него ноги подкосились. Он открыл рот, чтобы просить о пощаде, но не мог вымолвить ни слова.
Я решил не проявлять ни малейшего милосердия. Он не дождется от меня никакого знака, что я способен проявить снисходительность, видя его отчаяние. Полминуты на песочных часах истекли. Я взвел курок и прищурился, чтобы защитить глаза от вспышки пороха.
От ужаса он потерял дар речи. Думаю, в глубине души я ему сочувствовал, сам себе в этом не признаваясь. Нам всем снились сны, в которых с нами происходит что-то ужасное и мы пытаемся закричать, но не можем издать ни звука. Бальфур был объят именно таким ужасом. Он глотал воздух, будто в горле у него застряла кость, и наконец ему удалось, широко открыв рот, исторгнуть пронзительный вопль:
— Я не знаю!
Вопль такой громкий, словно он вложил в него всю силу своих легких. Какое-то время мы оба молчали — сперва оглушенные его криком, а затем напуганные последовавшей тишиной. Возможно, потому, что ему удалось произнести эти слова, возможно, потому, что тридцать секунд истекли, а он был в живых, сам не знаю почему, — но он наконец обрел дар речи.
— Я не знаю, кто он, — сказал он тихим голосом. — Клянусь. Никто не знает.
— Но вы украли для него акции «Компании южных морей», принадлежащие вашему отцу. — Это не был вопрос.
Его голова упала, как безжизненный череп у скелета, который я однажды видел на Варфоломеевской ярмарке.
— Откуда вы это узнали? — тихо спросил он.
— А кто еще мог это сделать? — Пускай лучше думает, что я пришел к этому выводу аналитическим путем, чем объяснять, что я выбил эти сведения у одного слабака. — Если они исчезли, кто-то должен был их взять. У кого были все возможности сделать это, кроме вас? В конце концов, акции потеряли бы свою ценность, если их не перевести на другого человека. А перевести их было невозможно, так? Они были фальшивыми и не нужны никому, кроме тех, кто хотел их уничтожить, а именно — Рочестеру или «Компании южных морей». Я предполагаю, что за их кражей стоял Рочестер. Потом через своего человека в Компании он изменил записи, чтобы выглядело так, будто ваш отец продал свои акции задолго до смерти.
Бальфур опередил мой вопрос:
— Он прислал мне банковский билет через посыльного, на сто фунтов, за то, что соглашусь сделать это. Еще триста фунтов были обещаны после того, как он получит акции. Мои отец уже был мертв, но прежде я понятия не имел, что они планировали убийство. А после того как они его убили, ничего нельзя было изменить. Я ни пенни от него не получил, почему было не воспользоваться возможностью?
Мне показалось, Бальфур убеждал скорее себя, нежели меня, ища оправдания. Я заметил, как менялось выражение его лица: вместо напускного стыда на нем появилась надежда, как у человека, который верит, что он будет прощен.
— Если вникнуть в суть дела, я не сделал ничего плохого.
— Кроме того, что были подручным убийц вашего отца, — сказал я. — Хотелось бы вновь вернуться к вопросу о вашем идиотизме. Видите ли, Бальфур, я ничуть не сомневаюсь, что вы не принимали непосредственного участия в убийстве вашего отца. Я считаю, для этого вы слишком малодушный человек.
Не могу выразить, с каким удовольствием я произносил эти оскорбительные слова. Он ощетинился, услышав обвинение в малодушии, но вряд ли стал бы утверждать, будто достаточно смел, чтобы пойти на отцеубийство.
— Я полагаю, вы неплохо нажились на смерти своего отца и были пособником его убийцы. Чего я не понимаю, так это зачем вы просили меня отыскать человека, который убил вашего отца. Вы велели мне обратить особое внимание на пропавшие акции. Получается, вы наняли меня, чтобы я вас и разоблачил. Зачем вы это сделали?
— Затем, — прошипел он, разозленный моей наглостью, — что я не верил, будто вам удастся когда-либо узнать то, что вы узнали! Я чувствовал себя в безопасности.
— Это не объясняет — зачем, Бальфур. Зачем?
— К черту вас, Уивер, грязный еврей! Я не стану отвечать на ваши вопросы. Стоит мне позвать слуг, и они откроют дверь, скрутят вас и отведут в суд.
— Вы уже их звали, слуги вас не услышали. Знаете, эти городские дома так крепко построены, такие толстые каменные стены и крепкие двери.
— Тогда я буду ждать. Я не верю, что вы можете меня застрелить. Я буду ждать, и, клянусь, ваша рука устанет прежде, чем мне надоест ждать.
Я улыбнулся и убрал пистолет в карман.
— Вы правы, сударь. Я не стану в вас стрелять. Пистолет лишь прибавляет ситуации драматизма. Я скажу вам, что я действительно намерен сделать. Я сломаю вам пальцы, один за другим. Я буду задавать вам один и тот же вопрос и ломать очередной папец, не получив ответа. Я дам вам десять шансов, или у вас не останется ни одного целого пальца на руках. С пальцами на ногах я связываться не стану, они менее чувствительны к боли. Однако в этой комнате полно предметов, с помощью которых можно размозжить ноги. Думаю, колени тоже. Скажем, все, что можно сломать, будет сломано, а я не получу ответа на интересующий меня вопрос. Тогда останется только ваш череп. Вас найдут бездыханным, как тряпичную куклу, и никто не будет знать, что с вами случилось.