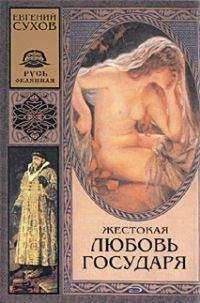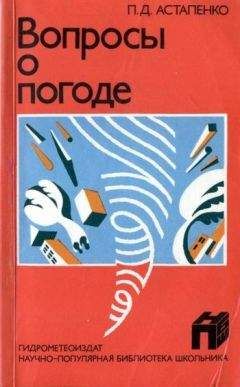— Слушаемся, батюшка Гордей Яковлевич, — кланялись монахи.
— Будьте в этих городах строгими отцами и справедливыми судьями. Понапрасну не карайте и людей не обижайте. Крепите свою мошну и денег зазря не тратьте! И еще… вы должны слушать мой указ, как если бы он исходил от самого бога. Сила наша в многолюдии и деньгах, а потому расширяйте свою братию и крепите казну. Деньги с вестовыми переправляйте в Москву в срок!
— Слушаемся, батюшка, — челом били разбойнички и расходились каждый в свою сторону: в Звенигород, в Тверь, во Владимир, в Кострому, в Вологду…
Циклоп Гордей действовал подобно князю-завоевателю, изо дня в день расширяя свои просторы, делая их все более безграничными. Поначалу это был небольшой закоулок Москвы, где стали собираться бродяги, совсем скоро его владения включали не только стольную, но и примыкающие к ней посады, а вот теперь Гордей Яковлевич замахнулся на многие города Руси. Эта битва была бескровной, поскольку царствие, которым долгое время повелевал Хромец, пришло в упадок, и челядь, признав в Гордее крепкого хозяина, добровольно сдавалась на его милость.
Совсем скоро со всех городов Руси маленькими ручейками потекут в Москву пожертвования, и казна Циклопа распухнет от небывалого прибытка.
Гордей Яковлевич захотел иметь точно такой же трон, как у самодержца, чтобы, откинувшись на его широкую спинку, можно было бы лицезреть свои бродяжьи колонии за много сотен верст.
Трон был изготовлен ровно за неделю самым искусным столяром Москвы, только вместо орлов у изголовья было вырезано злодейское лицо самого Гордея Циклопа. Посмотрев на работу, лиходей остался доволен и заплатил мастеру столько гривен, сколько у удачливого купца не выходило и за полгода торговли.
— Батюшка! Отец родной! — бросился в ноги татю мастеровой. — Пожаловал так пожаловал! Ежели что еще требуется, так ты сразу ко мне приходи. Лучше меня все равно никто не смастерит, а тебе и за так сделаю.
Теперь трон стоял на самом верху башни, в просторной «келье» Циклопа, и каждый, кто входил в его комнатенку, обязан был ударить челом у самого порога со словами:
— Кланяется тебе, государь наш Гордей Яковлевич, раб твой!
Почести Гордей Циклоп принимал достойно, словно всю жизнь рос в почете и достатке. Только кивнет слегка крупной головой — слышал, мол — и велит руку целовать, как милость.
Теперь Циклоп чувствовал себя на Москве если не венчальным самодержцем, то уж приемным сыном царя, а потому выставил на всех воротах сторожей-разбойников, которые воротили от города всякого, посмевшего не пропеть здравицу великому вору.
Встанут на пути детины дюжие молодцы и вопрошают:
— Признаешь Гордея Яковлевича?
Перепуганный путник головой машет и, поглядывая на крепкие кулаки разбойников, спешит поддакнуть:
— Признаю! Признаю!
— А коли признаешь, тогда шапку сымай перед его святостью!
Находились такие, кто на слове «святость» кривил губы и оттого ронял зубы на стоптанный снег. Но больше было других: снимут уважительно шапку, отвесят поклон и пожелают здравицу всемогущему разбойнику.
От этого нашествия татей на столицу терялись и бояре: заприметят толпу гогочущих разбойников и спешат свернуть в сторону. Такие не то что кафтан содрать, шею отвернуть могут.
Тати сновали из одного конца города в другой — распевали частушки и похабные песни, девки визжали и орали, будили грех.
Поутру Гордей Яковлевич объезжал свое подданство; уподобясь самодержцу, он привязал к карете гремящие цепи. Циклоп требовал чинопочитания, да такого, чтобы позавидовать мог сам государь. Чтобы московиты кланялись низенько и чтобы величали его не иначе как «батюшка». Спуску Гордей не давал никому и приказывал валять в снегу каждого, кто посмеет противиться его воле. И московиты со страхом и веселостью наблюдали за тем, как кунали в снежную купель головой не только окольничих, но и бояр. Фыркая и отплевываясь, те созывали на голову взбунтовавшегося холопа до сорока бед, махали кулаками и обещали плетей. Однако при следующей встрече с московскими татями они кланялись большим поклоном, приговаривая:
— Спасибо, батюшка! Спасибо, родненький!
В Москве царило небывалое веселье, торговля шла как никогда живо. Особым спросом пользовалась брага Чудова монастыря, которую чернецы настаивали на мяте и траве кукуй, от чего та становилась настолько крепкой, что одного ведра хватило бы, чтобы свалить целое стадо племенных быков. Московиты словно ожидали вселенского потопа, а потому в оставшиеся часы хотели испить всю брагу в подвалах и всласть, с молодецкой удалью по-драться на базарах. И потому шло одно сплошное гулянье с перерывом на затяжной мордобой.
На десятый день после отъезда государя из столицы бояре сошлись во дворцовых палатах.
Что ни говори, а без царя туго. Кликнуть бы громогласно на всю Русь: мол, поднимайся, честной народ, Москву спасай! Да кто пойдет, ежели хозяина на государстве нет. Бояр собирал новый конюший Федоров Андрей, предки которого были новгородскими вельможами, в посадниках да тысяцких ходили. Прадед Андрея когда-то не поладил с новгородским вече и перебрался в Москву. С тех пор Федоровы ходили в московских боярах, а корни в Думе пустили настолько крепко, что с ними считались отпрыски великого Рюрика.
Андрей Федоров был голосист, речист, а когда начинал говорить, то замолкали птахи, слушая его дивный глас. Видно, за эту речистость и выбрал его государь конюшим, хотя в Думе были люди и постепеннее.
Бояре шептались о том, что царица по-особому отмечала конюшего и не однажды зазывала молодца к себе в покои, куда не смели без дозволения являться даже мамки и ближние боярыни.
В Андрее Федорове не умер вольный дух Великого Новгорода, и бояре не раз были свидетелями того, как конюший перечил самодержцу. Видно, охранной грамотой дерзкому служили его былые заслуги в войне с Ливонией и Польшей, а так сослал бы его государь в холодную Вологду, и потешал бы там Андрей Федоров своим зычным голосом ретивых монахов.
Сенные палаты, еще две недели назад нарядные и прибранные, напоминали сейчас амбар — с лавок и со стен было сорвано праздничное сукно, полы не мели, двери отперты, а мозаика на окнах собрала тяжелый слой пыли.
Взгрустнулось вельможам, не к этому привыкли бояре: благостно было в палатах и празднично. Горели фонари, ходили чинно свечники, торжественно зажигая фитили и меняя огарки витых свечей. Оплывшего воска не увидишь, а в воздухе витал запах благовонного ладана.
— Вот что, государи, я вам скажу, — заговорил конюший, когда бояре расселись. — Не обойтись нам без царя. Мы сейчас что безглазая паства, брошенная своим поводырем, только Иван Васильевич и может вывести нас на свет божий. Что же вы скажете на это, бояре?
— Москва — двор Ивана Васильевича, а мы все в нем жильцы, — поддержал конюшего боярин Морозов. — Воротить нужно государя, в ножки ему поклониться, прощения у него просить. Может, тогда и снимет с нас опалу.
— Пропадем мы без государя, а татям от этого только радость будет.
— Разбойнички-то совсем расшалились. Через денек Гордей захочет во дворце жить, а нас, слуг государевых, заставит ему горшок в палаты подносить. Давеча меня заставил шапку перед ним ломать. А как откажешься, когда меня со всех сторон бродяги обступили?! Скажешь нет, так обесчестят, да еще терем подожгут, — жаловался окольничий Разбойного приказа.
— Видать, чем-то государю мы не угодили. Иначе он нас с собой бы забрал. Басмановых взял, князь Вяземский с ним поехал, да песьего сына Скуратова-Бельского на свой обоз посадил. А нам, потомственным государевым слугам, такое бесчестие учинил.
— Московиты над нами смеются, на улицу грешно выйти. Все пальцами тычут и в спину хихикают.
Бояре сидели без разбору: нет прежнего чина, как устроились, так и ладно. При государе, бывало, каждый норовил поближе к трону присесть, а тут самые почетные люди на скамьях сидят и срама не имут.
— Надо просить Ивана Васильевича на царствие вернуться. Смута в государстве пошла, а московский тать Гордей скоро повелит самодержцем себя величать. Наш государь так разобиделся, что даже трон свой любимый не взял, — продолжал Андрей Федоров. — Он, как в заточении, в самой дальней комнате стоит. А дворец испоганился весь. По коридорам юродивые да нищие шастают, скоро все бродяги с Городской башни в царский дом переберутся. А Гордей с полюбовницами на царском ложе устроится. Невмоготу уже более бесчестие терпеть. Воротить надо государя!
— Воротить-то хорошо, да кабы знать, куда ушел! С того времени ни слуху от него, ни духу, будто сгинул Иван Васильевич среди болот, только память о нем и осталась, — крестился Челяднин.
— Говорят, царь в Александровскую слободу подался. Этот дворец он особенно почитает.