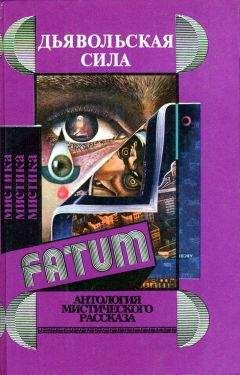Однако вскоре на смену первым ощущениям пришло чувство негодования. Я не был изгоем и не заслуживал того, чтобы меня сторонились, как будто я таковым являлся. Когда я наконец добрался до конторы Ахаба Хопкинса, то довольно многословно — что мне совсем несвойственно — излил ему душу, хотя и заметил, что мое присутствие ему в тягость.
— Ну, успокойтесь, мистер Пибоди, — сказал он, пытаясь меня утихомирить. — Я бы не воспринимал это столь серьезно. В конце концов, эти люди перенесли тяжелое потрясение, и потому настроение у них мерзкое, подозрительное. Кроме того, народ они, в основном, суеверный. Мне уже много лет, и я не помню их другими.
С серьезным видом Хопкинс замолк, и я воспользовался паузой.
— Вы говорите, потрясение. Простите, но я ничего об этом не слышал.
Он бросил на меня весьма странный взгляд, от которого я несколько опешил.
— Мистер Пибоди, в двух милях вверх по дороге от вашего дома живет семья по фамилии Тейлор. Я хорошо знаком с Джорджем. У них десять детей. Видимо, лучше сказать, было десять. Потому что вчера ночью их двухлетний ребенок бесследно исчез из своей кроватки.
— Мне очень жаль, но какое отношение это имеет ко мне?
— Уверен, никакого, мистер Пибоди. Но вы здесь поселились относительно недавно и, как бы сказать… рано или поздно вы должны об этом узнать — многие жители округи род Пибоди недолюбливают, точнее, ненавидят.
Его слова поразили меня, и я не пытался скрыть свои чувства.
— Но почему?
— Потому что есть множество людей, которые верят всем сплетням и слухам, какими бы нелепыми они ни были, — ответил Хопкинс — Вы достаточно взрослый человек, чтобы понимать, что вещи обстоят именно так, даже если вы незнакомы с нашим сельским бытом, мистер Пибоди. В детстве я слышал много разных историй, в которых фигурировало имя вашего прадеда, и так как в годы его владения поместьем имели место несколько безобразных случаев исчезновения маленьких детей, причем дети исчезали бесследно, то, возможно, возникает естественная мысль увязать два события — появление нового Пибоди в поместье и повторение случая, аналогичного тому, что когда-то связывали с именем вашего прадеда.
— Какой ужас! — воскликнул я.
— Несомненно, — согласился Хопкинс с почти настырной любезностью, — но дело обстоит именно так. Кроме того, сейчас апрель. Чуть более месяца прошло со времени Вальпургиевой ночи.
Мое лицо, должно быть, так сильно побледнело, что он смутился.
— Ну что вы, мистер Пибоди, — сказал Хопкинс с напускным участием, — неужто вы не знаете, что вашего прадеда считали ведьмаком?
Я покинул его совершенно разбитый. Более всего меня поразило подозрение, что между событиями предшествующей ночи и только что услышанным существовала какая-то вызывавшая тревогу логическая связь. Да, во сне прадед предстал в странном виде, а тут я узнал о нем нечто гораздо более существенное. Но, главное, я понял, что суеверные местные жители относились к прадеду как к мужскому аналогу ведьмы, как к ведьмаку или колдуну — словом, как называли, таким и видели. Больше я уже не обращал внимания на реакцию местных жителей, которые отворачивались, когда я проходил мимо. Сев в машину, я уехал в поместье. Там мое терпение подверглось еще одному испытанию, потому что к парадной двери было прибито примитивное предупреждение — листок линованной бумаги, на котором какой-то безграмотный, злонамеренный сосед карандашом нацарапал следующие слова: «Убирайсь отседа, иле…»
Вероятно, все неприятности минувшего дня растревожили мой сон гораздо сильнее, чем прежде. И в них появилось одно существенное отличие — картинки, которые я наблюдал, мечась в беспокойной дремоте, приобрели связность. Опять центральное место в них принадлежало моему прадеду Асафу Пибоди, но теперь вид его стал настолько зловещим, что вызывал страх, а рядом с ним находился кот: шерсть дыбом, уши и хвост торчком, — чудовищное существо, которое парило или плыло рядом с ним или за ним следом. Прадед нес что-то — что-то белое или цвета плоти, но из-за расплывчатости видения мне не удалось установить, что именно. Он проходил сквозь лес, носился по полям и среди деревьев; он двигался по каким-то узким проходам и однажды, я уверен, оказался в гробнице или склепе. Во сне я также узнал некоторые части дома. Но в моих видениях старик был не один: там присутствовала, всегда оставаясь на заднем плане, неясная чудовищная фигура Черного Человека — не негра, а человека исключительной черноты, черноты в буквальном смысле, чернее ночи, с пылающими глазами, которые, казалось, горели настоящим огнем. Кроме того, вокруг старика находились разного рода твари поменьше: летучие мыши, крысы, отвратительные мелкие существа — полукрысы-полулюди. Одновременно я испытывал слуховые галлюцинации, потому что время от времени до меня, казалось, доносился приглушенный плач ребенка, страдающего от боли, и в то же самое время — отвратительный гогот и тягучий голос, повторявший: «Асаф будет опять. Асаф вырастет опять».
И действительно, когда с первыми проникшими в комнату лучами солнца я, наконец, пробудился от бесконечного кошмара, то мог бы поклясться, что плач ребенка все еще звучал у меня в ушах, как будто он раздавался в самом доме. Больше мне заснуть не удалось, и я лежал с широко раскрытыми глазами, размышляя о том, что мне уготовят предстоящая ночь и ночи, которые последуют за ней.
Приезд из Бостона польских рабочих — крепких, спокойных парней — заставил меня на время забыть о моих кошмарах. Их бригадира звали Ян Чичорка. Крупного телосложения, мускулистый, на вид лет около пятидесяти, он сухо и властно командовал своими подчиненными, а те, словно боясь навлечь на себя его гнев, выполняли распоряжения быстро и проворно. Бригадир объяснил мне, что их приезд намечался не раньше, чем через неделю, но другую работу пока отложили и поэтому они послали телеграмму архитектору, а сами приехали сюда из Бостона, не дожидаясь его ответа. На руках у них были все необходимые планы, и они знали, что они должны сделать.
Первым делом они сняли штукатурку с северной стены комнаты, находившейся прямо под потайной комнатой. Им пришлось работать с осторожностью, чтобы не сломать стойки, поддерживающие второй этаж. Штукатурку и обрешетку под нее, что, как я заметил в начале работ, была устаревшего, кустарного образца, требовалось снять и заменить. Точно так же выглядел и тот угол дома, который я уже занимал, но там объем работ был побольше, потому как изменения вносились более существенные.
Немного понаблюдав за их работой, я ушел к себе и уже привык было к грохочущим звукам, как вдруг они затихли. Я подождал немного и кинулся посмотреть, что произошло. Очутившись в коридоре, я увидел, как все четверо сгрудились у стены — они суеверно крестились и потихоньку пятились назад; а потом врассыпную бросились прочь из дома. Пробегая мимо меня, Чичорка, обуреваемый ужасом и гневом, ругнулся в мой адрес. Они выбежали из дома, и пока я стоял как прикованный к месту, завели машину и на всех парах уехали прочь из поместья.
Совершенно сбитый с толку, я прошел в комнату, где они работали. Они уже сняли значительный кусок штукатурки и обрешетки; какие-то инструменты в беспорядке валялись на полу. В процессе работы они обнажили ту часть стены, что скрывалась за плинтусом, а вместе с ней и весь тот хлам, который накопился там за многие годы. И только подойдя поближе к стене и разглядев то, что, должно быть, увидели рабочие, я понял, что заставило этих суеверных неучей в страхе и отвращении убежать из дома.
У основания стены за плинтусом, среди длинных пожелтевших полуизгрызанных мышами листков, на которых все еще виднелись несомненно кабалистические знаки, среди мерзких орудий смерти и разрушения — коротких, похожих на кинжалы ножей, покрытых ржавыми пятнами того, что наверняка некогда было кровью, — лежали маленькие черепа и кости, по крайней мере, трех детей!
Не хотелось верить своим глазам, так как суеверный вздор, услышанный мною днем раньше от Ахаба Хопкинса, теперь приобретал более зловещий оттенок. Я чувствовал растерянность — настолько многое осознал в тот момент. Дети исчезали при жизни моего прадеда; его подозревали в колдовстве, в черной магии и других деяниях, неотъемлемой частью которых являлось приношение в жертву маленьких детей; и вот здесь, в стенах его дома, лежали эти останки, эти вещественные доказательства, подтверждающие подозрения местных жителей в том, что мой прадед занимался гнусными делами!
Оправившись от первого потрясения, я понял, что должен действовать без промедления. Если бы о находке стало известно, мои богобоязненные соседи действительно сделали бы мое пребывание здесь просто невыносимым. Не теряя ни секунды, я сбегал за картонной коробкой, и, вернувшись с ней в комнату, собрал все косточки до единой, а потом отнес сей ужасный груз в семейный склеп и высыпал его в нишу, в которой когда-то находились давным-давно превратившиеся в прах останки Джедедия Пибоди. К счастью, маленькие черепа рассыпались, и поэтому если бы кому-то вздумалось устроить осмотр склепа, его взору предстали бы лишь останки давно умершего человека, и никто, кроме эксперта, не сумел бы установить, кому принадлежали эти косточки, которые достаточно хорошо сохранились и могли бы дать ключ к разгадке. К тому времени, когда польские рабочие поведали бы о находке архитектору, я бы уже смог отрицать правдивость их рассказа, но моим опасениям не суждено было сбыться, так как охваченные страхом поляки так ни словом и не обмолвились об истинной причине своего отказа работать у меня.