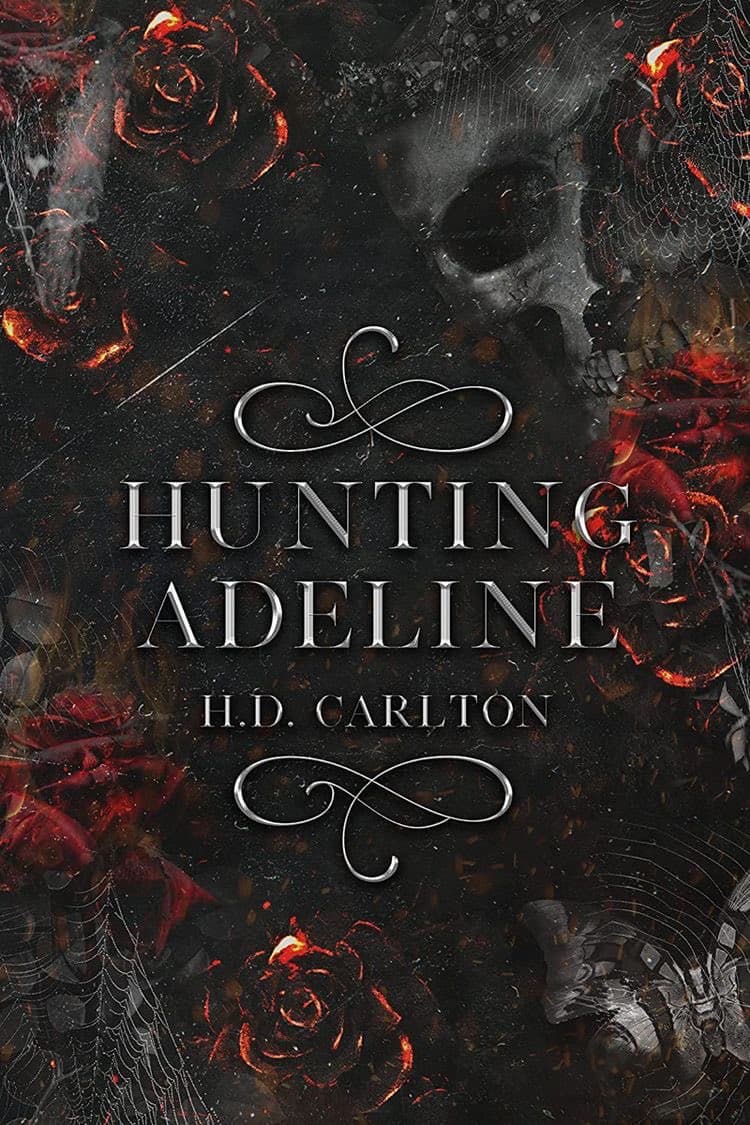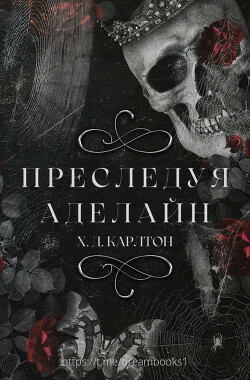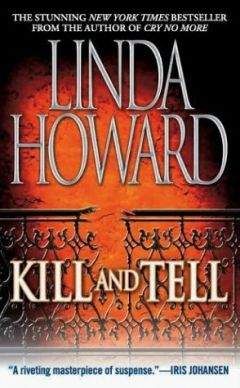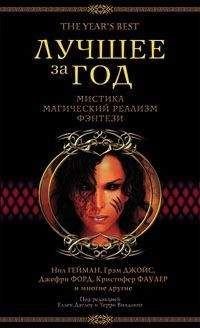хорошо. Действительно. Я пережила что-то травмирующее — очевидно — и спать мне не всегда легко.
Она ерзает на кожаном диване, собираясь сказать что-то еще, но я перебиваю ее.
— А мне здесь хорошо. В поместье Парсонс.
Ее рот закрывается, а накрашенные розовым губы хмурятся. Я вздыхаю, укол вины пронзает меня в груди.
— Мама, я ценю твою заботу, правда. Но мне потребуется время, чтобы перестроиться и вернуться к нормальной жизни. — Обычное произнесение этого слова похоже на проглатывание горсти ржавых гвоздей. Я никогда не буду нормальным. Я не думаю, что когда-либо была.
И если кто и мог это подтвердить, так это моя мать — женщина, которая большую часть жизни называла меня уродом.
На мгновение она замолкает, глядя на клетчатую плитку и теряясь в том, какой ураган просеивает ее череп и готов вырваться изо рта. Мне всегда казалось, что в ее голове бушуют бури, потому что ее слова всегда были чертовски разрушительными.
— Почему ты не рассказал мне о нем? — тихо спрашивает она. Она поднимает голову, чтобы посмотреть на меня, ее кристально-голубые глаза полны боли. Я не могу решить, усугубляет ли это зрелище чувство вины или злит меня.
— Потому что вы никогда не давали мне почувствовать себя в достаточной безопасности, чтобы рассказать тебе что-либо, — прямо отвечаю я.
Ее горло работает, глотая эту горькую пилюлю.
— Почему… почему ты должна была чувствовать себя в безопасности, чтобы рассказать мне о нем, Адди? — спрашивает она, ее скульптурные брови хмурятся. — Я имею в виду, если бы он был… нормальным, это не должно было иметь большого значения. Если бы он был кем-то, кого ты встретила в книжном магазине, или на одном из ваших мероприятий, или даже в продуктовом магазине. — Она делает паузу. — Зачем тебе нужно было чувствовать себя в безопасности?
Я закатываю губы и поворачиваюсь к окну.
— Адди, он причинил тебе боль?
Моя шея чуть не сломается от того, как быстро я поворачиваюсь к ней.
— Нет, — говорю я строго, хотя это не совсем так.
Он сделал мне больно? Да, но не так, как она думает. Он никогда не тронет меня пальцем из-за гнева. Тип боли, которую доставляет Зейд, неортодоксален, и хотя какая-то часть меня всегда наслаждалась этим — это все еще причиняет боль.
Тем не менее, я жажду этого в любом случае.
— Почему?
Я вздыхаю, размышляя о том, сколько я должен сказать. Он убивает людей, чтобы заработать на жизнь? Слишком много. Он преследовал меня? Никогда бы не пережила это, независимо от того, как виноватой она себя чувствует.
Так что я просто соглашаюсь с правдой. Часть, которая не объявляет его психопатом с небольшой проблемой привязанности.
— Он спасает женщин и детей от торговли людьми, мама. Он очень глубоко вовлечен в этот темный уголок мира.
Она резко втягивает воздух, ее позвоночник выпрямляется, а глаза расширяются от возмущения. — Он стал причиной вашего похищения?
— Нет, — отрезаю я. — Он не зачем, и нужно помнить, что он спас меня.
Меня бы здесь не было — не было бы в живых — если бы не он.
Она в замешательстве качает головой и спрашивает:
— Тогда почему ты была? Если он связан с теми же людьми?
Я пожимаю плечами, изображая беспечность, которой не чувствую.
— Было много факторов, но ни один из них не был его делом. Это все, что важно.
Она вздыхает, одновременно и разочарование, и согласие.
— Он опасен?
— Да, — признаюсь я. — Но не со мной. Он любит меня, и не только это, он любит меня такой, какая я есть. Он никогда не хотел меня изменить.
Она вздрагивает от раскопок, но на этот раз воздерживается от защиты.
— То, что он любит тебя, не означает, что он хорош для тебя, — решительно говорит она.
Я поджимаю губы, на мгновение обдумывая это.
— Что тогда хорошо, мама? Ты знаешь лучше, верно? Настоящий порядочный парень, юрист или врач?
— Не будь тупицей, — отрезает она. — Как насчет кого-то вроде полицейского, который носит оружие только потому, что он…
— Защищать людей, — перебил я. — Потому что ты думаешь, что они защищают людей. Ты действительно хочешь принять участие в этих дебатах прямо сейчас? И не могла бы ты сказать, что Зейд делает то же самое? Спасая невинных людей от похищения и порабощения?
Она поджимает губы, явно все еще не соглашаясь, но не желая продолжать спорить. Это первое, но я не думаю, что это будет продолжаться.
На этот раз вздыхаю я. Я откидываюсь на спинку стула.
— Я не хочу ссориться с тобой из-за него, потому что это ничего не изменит. Я знаю его лучше, чем ты, и если ты хочешь его ненавидеть, прекрасно. Но сделай это там, где мне не придется об этом слышать, — говорю я устало и решительно.
Я слишком устала, чтобы продолжать бороться с ней. Это все, что мы когда-либо делали, и это устарело более десяти лет назад.
— Ладно, — фыркает она, раздраженно и раскаявшись. — Позволь мне пригласить тебя на хороший ужин хотя бы на твой день рождения. Можем ли мы это сделать? Никаких разговоров о твоем парне.
Я смотрю на нее, и стеснение в моей груди немного ослабевает. Улыбаясь, я киваю головой.
— Это звучит неплохо. Дай мне подготовиться.
Я встаю и направляюсь к лестнице, когда она кричит: «Не забудь консилер, дорогая. Тебе это нужно».
Звук каблуков Франчески отскакивал от потолка, заставляя мое сердце подскочить к горлу. Дайя поднимает глаза, встревоженная звуком, но привыкшая к махинациям поместья Парсонс.
У меня, с другой стороны, тихий сердечный приступ. Я слышу эти резкие шаги с тех пор, как была дома, и хотя на самом деле это не Франческа, я думаю, злые призраки в этом доме знают, что преследуют меня в кошмарах, и с удовольствием воплощают их в жизнь.
Я сжимаю руки в кулаки, чтобы уменьшить дрожь, ломая голову, пытаясь отвлечься.
«Может быть, мне просто стоит стать монахиней», — объявляю я, заставляя Дайю замолчать в середине. Она наполняет бокал красным вином, и это кажется… странным. Как будто я не должена стоять здесь, наслаждаясь вином, когда я убивала людей и избегала торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.
Мы сидим у моего кухонного островка, и я не могу не погреться в ностальгия. Меня не было два с половиной месяца, но мне кажется, что это годы. Это странно, но это тоже хорошо. Чтобы снова быть здесь с ней, пить, как будто