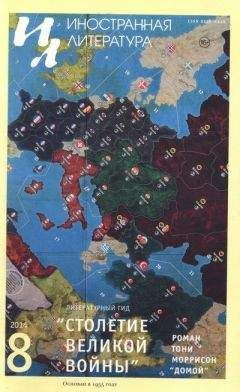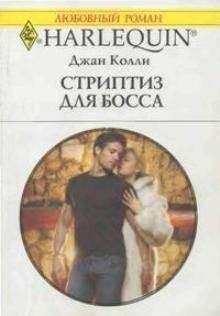Зубодробительную историю про дырокол, бегство из Японии и последующую натурализацию в массажном салоне я проговариваю в полной тишине, никаких трудностей с дыроколом (punch press и как синоним – bear) не возникает, массаж ступней (foot massage и как синоним – sole) тоже дается мне легко, но… История совсем не греет рыбу-прилипалу, настоящего подонка. Для заварников и фарфоровых чашек она бы сошла, а для члена Якудзы (Триады) – выглядит чересчур мелкотравчатой. Я понимаю это, лишь когда заканчиваю спич. Отрубленный мизинец – вот что мне грозит за подобные вольности. За несанкционированные анекдоты.
– Ладно. Не обращайте внимания…
Азиат останавливает меня одним движением: даже не руки – век. Тяжелых, как у Будды, припухших, как у старика-каллиграфа: заткнись и слушай, придурок.
– Паром Стокгольм – Киль, – говорит он. – Отправление сегодня вечером, в билете все указано.
– Билет на мое имя?
Япошка (или китаеза), очевидно, считает какие-либо объяснения ниже своего самурайского (конфуцианского) достоинства. Он просто выкладывает на прилавок стопку документов. Наличие среди них ветеринарного паспорта поражает меня в самое сердце. Не я один решил позаботиться о Муки, гы-гы, бу-га-га, нахх!..
– И что мне делать в Киле?
– Ячейка в камере хранения на железнодорожном вокзале.
На том месте, где секунду назад красовалась моя открытая улыбка и торчала морда Муки, образуется пустота: азиат снимает фотографию, переворачивает ее и что-то быстро пишет на обратной стороне.
– Вот ее номер. Там же – дальнейшие инструкции.
– А… Как вы узнали про кота? – я просто не могу не задать этот вопрос.
И снова он не снисходит до объяснений – проклятый япошка, зачумленный китаеза, корейский выкормыш, вьетнамское пугало. Хотя и постукивание пальцами по снимку тоже можно считать объяснением.
– Когда только меня успели щелкнуть?
– Вам виднее. Я получил фото в готовом виде и не имею отношения к его проявке.
– И что мне делать с этой фотографией потом?
– Что хотите. Можете съесть сами. Можете скормить коту. Но не раньше, чем запомните порядок цифр на обороте.
– Я уже запомнил.
Я не имею ни малейшего понятия о том, как разыскать паром, идущий в Киль. Хотя наверняка могу добраться до него на велосипеде, руководствуясь указаниями из брошюрки «Стокгольм, путеводитель по городу». Поездка на велосипеде окутана легким флером, поэтична, немного грустна и заставляет вспомнить о том, что существовали времена, когда о компьютерных эффектах никто и слыхом не слыхивал, а кинематограф был немым. В поездке на велосипеде есть масса преимуществ, но мне не хочется нарушать идиллическую картинку фронтона чайной лавки. Велосипед, прислоненный к стене, – самая важная ее деталь. Все останется именно таким, каким виделось мне на фотографии, уже тогда все было предопределено и если кому-то дано изменить пути звезд, орбиты планет, течение судьбы – пусть это буду не я.
У меня хватит дел и без этого.
– Как мне добраться до парома?
– Я отвезу вас.
…Неожиданное предложение. Почти непристойное предложение. Предложение на миллион долларов. Азиатов подсознательно тянет ко всему европейскому, отсюда – выбеленные волосы, отсюда – поджарый SAAB, за рулем которого он сейчас устраивается. Я занимаю место на пассажирском сиденье, корзинка с котом по-прежнему со мной. Профиль Муки вытянут так же, как морда священного быка Аписа, профиль азиата приплюснут, как и любой азиатский профиль. На контрасте оба профиля смотрятся весьма забавно, Чужой против Хищника, гы-гы, бу-га-га, нахх!.. Я с трудом подавляю улыбку и принимаюсь думать о том, что не мешало бы прикупить Муки ошейник, примерно такой же, какой был у Сонни-боя. Я знаю, что сделаю после этого -
напишу на ошейнике имя кота.
Я использую для надписи не слишком популярный шрифт Palatino Linotype, но как она будет выглядеть, надпись?
«Муки».
«Muki», – пожалуй, английский вариант – предпочтительнее. Тот, кому Муки достанется впоследствии…
Стоп.
Почему Муки должен кому-то достаться? Ведь теперь это мой кот. Мой – и все тут. И расставаться с ним я не собираюсь.
На лобовое стекло падает слегка пожелтевший лист (кадр, украденный жизнью у Ли Минг-Се).
На лобовое стекло падает первая капля дождя (кадр, украденный жизнью у Ким Ки-Дука).
Азиат может гордиться своими соотечественниками, в его силах продлить недолгое очарование замерших на стекле листа и капли, но вместо этого он включает дворники.
Кадр, украденный жизнью из десятков тысяч проходных фильмов, напрочь лишенных поэзии.
Следующее движение моего спутника тоже лишено поэзии: он вытаскивает из бардачка SAAB половинку фотографии.
– Отдадите это человеку, с которым встретитесь в Киле.
– На железнодорожном вокзале? У ячейки камеры хранения? – позволяю я себе маленькую вольность.
– Думаю, это случится позже.
– Когда?
– Когда вы получите инструкции. Способом, о котором я вам уже сказал.
Это лишено смысла. Все происходящее лишено смысла. Или, скажем, его не больше, чем в любом шпионском боевике. Главное – движение. В подобном контексте движение можно рассматривать как самоцель.
За кого они меня принимают?
Это – главный вопрос, и на него у меня нет ответа. Ведь сценария я не читал.
Половинка фотографии когда-то являлась частью единого целого, изображенное на ней нисколько меня не удивляет, и этот снимок я уже видел:
близкая перспектива улицы: беленые стены домов, синие двери, синие ставни, открытые террасы вторых этажей, каменные плиты мостовой тоже кажутся побеленными – все это напоминает Средиземноморье, но я не совсем уверен. В глубине кадра – там, где крылья улицы почти смыкаются, – силуэт человеческой фигуры.
Сейчас я держу в руках лишь часть улицы (правую) и часть силуэта.
Но думаю совсем не о них, а о предстоящем морском путешествии. Его предчувствие заставляет сладко сжиматься сердце. Я так и представляю соленые брызги на лице, удаляющийся берег, влажные поручни, крутые борта, крутые ступени, обшивку каюты, эй, стюард, постарайтесь найти мне место за маленьким столом, не слишком в стороне и в обществе приятных спутников. Пара-тройка приятных спутников обязательно отыщется, и, если они не будут такими отморозками, как Лягушонок, – ничего им не грозит. Но что-то подсказывает мне: отморозки существуют везде и всегда.
Да и хрен с ними, на них всегда можно накинуть петлю. Я ведь прав, Муки?..
***
…Сегодня я расстался с Муки.
Я мог бы расстаться с ним еще в Киле. Или позже – в Амстердаме. Или – еще позже – в Брюсселе, Берне, Флоренции, Загребе, Тиране, Сараеве. Но я расстался с ним только сейчас, когда понял, что наличие кота делает меня персонажем, которому так и тянет посочувствовать. У Леона-киллера был нелепый цветочек в горшке: дымовая завеса – за ней скрывались все неблаговидные делишки Леона; туман – за ним реки пролитой Леоном крови были едва видны. А у меня имелся в наличии Муки – та же дымовая завеса, тот же туман. Муки никогда не стал бы свидетельствовать против меня, напротив, десять из двенадцати присяжных меня бы оправдали, и все благодаря его потешной физиономии. Присутствие Муки было моей маленькой человеческой слабостью, а единственное, что ценится в мире, – это маленькие человеческие слабости. Они все оправдывают и заставляют все понимать. Так кажется тем, кто смотрит гребаное хреново кино, а кино смотрят все.
Только я больше не смотрю кино.
И больше не думаю о нем. С тех пор, как расстался с Муки.
Нет, я не свернул ему шею, его не постигла участь всех тех, кого я угробил:
парня на пароме с маленькой спортивной сумкой «UFO people», позволившего себе кривую ухмылку в нашу с Муки сторону, на приятного спутника он не тянул;
шлюхи, прицепившейся ко мне на вокзале в Киле, ее широкую заколку с панорамой площади Согласия я оставил себе на память, чтобы позже решить, соответствует ли панорама действительности;
гнойного педрилы, попытавшегося подснять меня в занюханной амстердамской кофейне на Вармусстрат;
португальца из Синтры, настоящего эксперта по фаду, с гитарой он не расставался и потому наиграл мне парочку вещей, прежде чем я саданул ему по башке обломком свинцовой трубы;
двух немытых албанцев, решивших, что им сойдет с рук кража моего бумажника.
Были и другие, их смерть не оставила после себя никаких заметных воспоминаний, теперь я стал настоящим экспертом по смерти, так же, как португалец из Синтры был экспертом по фаду. Я не могу сказать, что знаю о ней все, но кое-что знаю. Вряд ли эти знания так уж сильно отличаются от знаний Анны Брейнсдофер-Пайпер, писаки. Но они явно лишены философичности и ореола романтизма. В конце концов, Анна просто писака», а я – человек, который просто убивает. Я не оставляю никаких следов, я все тщательно подтираю за собой, по другому это называется – «методично», резиновые перчатки тоже никуда не делись, я сменил уже третью пару. И я не оставляю автографов на телах жертв, хотя желающих их прочесть наверняка нашлось бы немало. А единственный автограф, который был оставлен для меня, – автограф Анны – так и остался непрочитанным. Может быть, я прочту его когда-нибудь, и тогда моя жизнь изменится. А я не хочу, чтобы она менялась. Во всяком случае – сейчас.