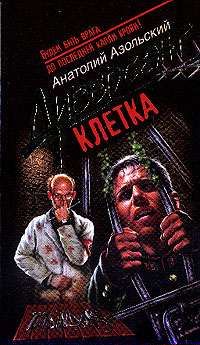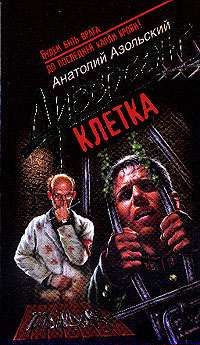Анатолий Азольский
Облдрамтеатр
На первую субботу марта выпало факультетское дежурство, сиднем сидел в одуряющем студенческом гаме, охрип, всласть наоравшись, освободился наконец от последнего любознательного, прыгнул в трамвай, выскочил из него задолго до дома — захотелось подышать и подвигаться. Пощипывал морозец, висевшая над городом луна в который раз напомнила об одиночестве (родители померли, друзей нет), ноги взныли, побитые и застуженные на передовой, и взыграло желание — выпить, немедленно, не отходя, как говорится, от кассы! Купил четвертинку и стал гадать: каким стбоящим предлогом оправдать пьянку в подворотне? Не отметить ли какое-нибудь событие давнего или не очень давнего времени? «В наряд!» — кладут резолюцию прокуроры, отправляя в архив дела. А ведь если вдуматься, каждый прожитый год — очередной лист так и не раскрытого дела, возбужденного по факту рождения его, Гастева Сергея Васильевича, и дела, бывает нередко, извлекаются из пыльных хранилищ по внезапно открывшимся обстоятельствам.
Так подо что откупорить четвертинку, каким обстоятельством раскрыть кладовые памяти? Какое событие провернет ключ в заржавевшем замке? Что, кстати, было год назад именно в этот день, 5 марта? Да ничего не было: будни, лекции, он еще только вживался в преподавательство. А много раньше, то есть 5 марта 1939 года? Тускло и непамятно: студент первого курса, начало семестра, гранит юридической науки, изгрызаемой мозгами скромного юноши, не исключается и городской парк, лед, «гаги», подаренные отцом ко дню рождения. Ну а пять лет прибавить?
Госпиталь, уколы, нога в гипсе, третье ранение — ничего примечательного. А еще годик?
Он расхохотался. Адель и Жизель! Сколько лет не вспоминались две француженки, вывезенные немцами из Парижа и немцами же брошенные при отступлении, — боевые трофеи, доставшиеся им, ему и Сане Арзамасцеву. Дивизию в конце февраля отвели в тыл, было это в Венгрии, потрепанный полк зализывал раны, контуженого Гастева пристроили к роте связи, ее командир старший лейтенант Арзамасцев повел Гастева на ночлег в никем еще не занятую усадьбу. Сбежавший хозяин ее наказал прислуге умасливать большевиков, она и выдала русским офицерам спрятавшихся проституток — чернявенькую Адель и белокурую Жизель, которую немцы величали Гизеллой. Обе обладали немалым педагогическим даром — всего за неделю обучили славян всем премудростям любви, расцветавшей в борделях Марселя и Парижа, отчего командир роты связи малость тронулся. Одевшись по всей форме, при орденах и медалях, стал по утрам подходить к зеркалу, вглядывался в свою рязанскую харю и злобно шипел:
«Армяшка!.. Грузинская собака!» — либо совсем уж заковыристо:
«Жидовская морда!» 5 марта было днем рождения Сани, на нем и решили: отпустить учительниц на волю, пусть пробираются к холмам и виноградникам прекрасной Франции, к притонам Лютеции, да и политотдел учуял уже запашок разврата. Утирая слезы, француженки ударились в бега. Саню потащили в штаб на допрос, Гастева же отпустили с миром: что взять с контуженого?
За Адель и Жизель полилась водка в рот, прямиком, — прием старый, на передовой всему научишься, закусывать пришлось «мануфактуркой», рукавом пальто. Домой пришел приятно возбужденным, душа освежилась, окно в прошлое распахнулось, повеяло волей, и дьявольский аппетит разгорелся от материализации зыбких образов былого: слопал не разогревая суп на плите и приложился к запасенному на Женский день коньяку.
И в следующую субботу повторил возврат в минувшее, нашел год, в котором 12 марта светило особенным днем, достойным внимательнейшего рассмотрения, такой датой залюбуешься. Так с этих суббот и пошло — заглядывание в собственную жизнь, как в замочную скважину, как в щель забора, за которым раздеваются девочки, — был, был однажды такой случай в далеком детстве.
Удивительнейшие вещи отыскивались в закромах памяти, где вповалку лежали нажитые им драгоценности. Глоток субботней водки озарял — будто над ничейной межокопной полосой взмывала осветительная ракета, наугад выпущенная, что прельщало, отчего и затаивалось, как при испуге, дыхание. В неизведанное прошлое летела она, и стала прочитываться собственная биография — та, которую он даже и не знал, о которой ни в разговорах, ни в анкетах тем более не упоминал. На фронте какие-то секунды видишь освещенный край немецкой обороны, но, когда ракета сникает и полоса погружается во враждебную темноту, память в мельчайших подробностях восстанавливает только что увиденное, расширяет высвеченный на секунды круг — и человек ночью видит то, чего не узрел ясным днем. Однажды стал прикидывать, а что, собственно, было в давно прошедшие времена июля 1932 года, и вдруг увидел себя плачущим навзрыд оттого, что в городской библиотеке не выдали ему Фенимора Купера: молод, мол, и не по программе. Все, оказывается, абсолютно все хранится в памяти, и сам он, вот что странно, будто не нынешний, не сиюминутный, а прежний, ничуть не повзрослевший. Да, он, двадцативосьмилетний мужчина, капитан запаса, награжденный десятью орденами и медалями, трижды раненный, народный следователь после института, а ныне преподаватель кафедры уголовного процесса, он, побывавший в огне, крови и мерзости сражений, видевший смерть и настрадавшийся вдоволь, он, Сергей Васильевич Гастев, все еще мальчишка, он такой, что впору искать зеркало, глядеть в него исступленно и в подражание Сане Арзамасцеву обзывать себя обидными, позорными словами, потому что злопамятен, потому что…
Нечто банное было в этих субботах — облегчающее, отмывающее и очищающее. Вошло в привычку и даже стало ритуалом во все прочие дни таить в себе сладкую жуть суббот, в священный же вечер отъехать от дома, где все назойливо кричит о сиюминутности, как можно подальше, в ту часть города, где давно не бывал, и в сумерках (особо желателен туман) идти по малолюдной улице; бесплотными тенями прошмыгивают мимо случайные прохожие — как даты, события, эпохальные происшествия, до которых сейчас, в эту именно субботу, нет никакого дела, они лишние, они безынтересны, их день и час еще не настал, но грянет календарное число — и уже на другой улице, в другую субботу заголосят немые тени; раздвинется занавес — и на сцене возникнут новые персонажи, на них, как бы в кресле развалясь, и будет посматривать он, Гастев.
Тяжкой была суббота 27 августа 1949 года. Осветительная ракета повисела над таким же днем десятилетней давности, но так и не выхватила из желтого круга ничего крупного или возбуждающего. Взвилась еще разок, залетев на год поближе, и рассыпалась мелкими искрами над плоской землицей. Зато траектория, воткнувшаяся в 27 августа 1938 года, взметнула смертельную обиду, а водка погрузила в тягчайшие раздумья, вновь напомнив о том, какой же он все-таки мальчишка, раз не в силах забыть тот страшный час того самого дня 27 августа, когда пришел он в институт узнавать, принят ли на учебу, хорошо зная, однако, что принят, зачислен, иначе и не могло быть: все экзамены сданы на «отлично», да и всем известно, что уже с восьмого класса готовил он себя к следовательской работе, проштудировал десятки полезнейших книг, стрелял без промаха, научился обезоруживать преступников, бегал как лось, шпарил по-немецки, мня себя в будущем знаменитым сыщиком. Радостно шел в институт, как на школьный праздник с раздачей новогодних гостинцев, а глянул на доску объявлений — и обомлел: в списках принятых на прокурорско-следовательский факультет фамилии его не было! Глаза заметались, дыхание прервалось, увидел он себя зачисленным на хозяйственно-правовой факультет, причем фамилия стояла не в алфавитном ряду, а в самом низу, от руки приписанная. Не достоин, оказывается, быть грозою бандитов и шпионов, запятнанный он, социально или классово чужд настоящим советским парням заветного списка. Что пережито в тот день — на всю жизнь осталось, но виду тогда не подал, а позднее возблагодарил судьбу: на том хозяйственно-правовом факультете (ХПФ) учились грамотные, умные, начитанные ребята и девчата, хорошо воспитанные, у всех до единого какой-то грешок в биографии, какая-то чернящая анкету запись, но они, о грешке и записи зная, жили как ни в чем не бывало, бегали по театрам, влюблялись, понимали живопись и музыку в отличие от нагловатых парней с безупречной родословной, которые учебой себя не утруждали, рассчитывая на пролетарское происхождение и свысока посматривая на оппортунистический ХПФ, переполненный «интеллигентами» и «евреями». Сергей Гастев у матери пытался узнать, какое проклятье нависло над их семьей, отец-то, рабочий из мещан, посланный партией на бухгалтерские курсы и ставший поэтому служащим, ни в каких оппозициях не состоял, чист как младенец, мать же с девчоночьего возраста бегала вдоль ткацких станков, и сына родители воспитали примерным пионером и комсомольцем. Уже в войну, заехав домой после госпиталя, выпытал он все-таки у отца, в чем грех. В середине 30-х годов или чуть позже пришла на заводе пора всем исповедоваться, выкладывать коллективу слабости свои, вредящие общепролетарскому делу. Каялись кто в чем горазд, хлестая себя обвинениями в непреднамеренном вредительстве, и отец, праведный до тошноты и скуки, не нашел ничего лучшего, как брякнуть: грешен, служил под знаменами царских генералов. Так и влетели в протокол слова эти, ничего вообще не значащие, поскольку в царской армии служили солдатами миллионы мужчин. Но словечко-то произнеслось, словечко-то записалось, и какой-то товарищ, сидевший на анкетах и протоколах, службу в царской армии признал предосудительной, хотя никакой вины за отцом не было: советская власть такую службу не считала преступной, а инвалидам империалистической войны выплачивалась пенсия. Но еще до разговора с отцом к Гастеву пришло осознание: власть дурна, криклива, злобна и склонна законопослушного обывателя считать объектом уголовного преследования, даже если тот ничегошеньки не совершил и живет тишайшей мышью. Дурная власть — надо это признать и на этом утвердиться. Дурная: никогда толком не уразумеешь, чего она хочет и на кого ткнет пальцем («Вот он — сын беляка!»). То ли сама власть рождала исключительно для себя пролетарских неучей, то ли сами неучи сварганили механизм, называемый обществом, только для собственного пользования — сейчас уже не разберешь, запутаешься в клубке причин и следствий. Действующая армия и тыл нуждались в юристах, не раз на него, Гастева, приходили запросы и приказы: откомандировать в распоряжение военной прокуратуры! А Гастев издевательски отговаривался и отписывался: «Юридического образования не имею, поскольку обучался на хозяйственно-правовом факультете».