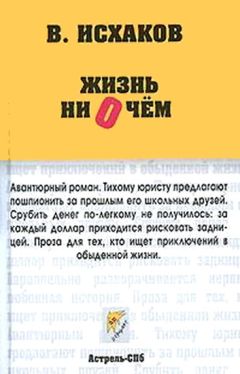Он опять втянулся, окутался синим дымом и на выдохе приблизился ко мне вплотную.
— Вам-то, конечно, нечего пока рассказывать, да я от вас этого и не жду, я так говорю, на всякий случай… Знаете, Сергей Владимирович, людишки вокруг любопытные, начнут расспрашивать: что там — у нас то есть — внутри, какая обстановка, что за люди… Не надо бы за пределами этого здания происходящие здесь вещи обсуждать. С женой поделиться — это еще куда ни шло, это дело святое. А так, вообще — не надо.
— Я понимаю.
— Ну и прекрасно! Тогда перейдем непосредственно к делу. Ничего сверхъестественного, как я уже говорил, мы от вас не потребуем. А нужна нам от вас кое-какая информация… Вот, взгляните, пожалуйста… — Он протянул мне лист бумаги с отпечатанными крупным шрифтом фамилиями и именами. Шесть имен и шесть соответствующих фамилий. В том числе и мои. — Вы и друзья вашего детства и юности, так?
Я молча кивнул.
— И притом — самые близкие друзья? Узкий, что называется, круг?
Я снова кивнул.
— Вот и замечательно. Значит, вспоминать о них вам будет не слишком трудно и не слишком неприятно. Вы только не задавайтесь вопросом: зачем. Это очень вредный вопрос, поверьте. Главное — ничего не скрывайте, излагайте подробно, до мелочей — любые случаи, слухи, сплетни, какие-то ваши собственные представления о том, что происходило. Не думайте о форме изложения — свободный поток сознания, неожиданные скачки во времени и пространстве, ассоциации и аллюзии — приемлемо все. Да хоть в стихах пишите, — вновь неожиданно выдохнул он в меня свое серое — серное дьявольское облако, — наши специалисты во всем разберутся, все расшифруют. Единственное ограничение, пожалуй, во времени. Увы, более трех суток дать не могу, не вправе, но и период времени, который нас интересует, тоже сравнительно невелик: вы можете отбросить все, что с вами происходило, скажем, до восьмого класса средней школы и… лет через пять после окончания школы. Всего, стало быть, получается семь… нет — восемь лет.
Многозначительная пауза.
— Ну же, Сергей Владимирович, не разочаровывайте меня! Сейчас вы просто обязаны спросить, сколько именно получите вы денег.
— Зачем? Три дня работы… плюс аванс… Полагаю, это будет…
Я взял листок бумаги и написал: знак доллара и число с четырьмя нулями.
— Ровно столько! — сверкнул он уважительно глазами. — Ровно! Но при условии, что информация будет достоверной. В противном случае ваш синий конверт останется при вас — и только.
— А каким образом… Кто будет определять, достоверна информация или нет? Так ведь можно любую информацию назвать недостоверной и…
— …и не заплатить, — закончил он за меня. — На этот счет можете не беспокоиться. Вот здесь у меня… — Он выдвинул правый ящик своего стола, сунул туда руку, словно хотел что-то достать, но не достал. — Здесь у меня — подробные воспоминания одного из тех, кто фигурирует в вашем списке. И когда вы изложите вашу версию, мы сравним ее с тем, что уже имеем, и очень легко, поверьте, установим, насколько вы были искренни и, главное, добросовестны.
Этот прием мне тоже известен. Самому не раз приходилось сравнивать показания разных людей, чтобы отделить ложь от правды. А еще иногда я показывал подследственному пустую папку и говорил, что в ней лежат показания его подельника, так что пусть врет, да не завирается, я проверю… И некоторые на такую примитивную приманку клевали.
— А если у меня не получится?
— Ну не получится — и не получится! Никто ведь с ножом к горлу не пристает… Если через три дня ничего не напишете и не принесете — забудьте этот разговор начисто. Считайте, что доллары на тротуаре нашли. И баста! В принципе-то, вы согласны попробовать или нет?
— В принципе — согласен.
— Значит, решено. — Он поднялся во весь рост. — Вот вам карточка. Тут мой телефон. Прямой. Когда закончите — звоните, к вам подъедут. И имейте в виду: у вас ровно трое суток. Ровно. Сегодня у нас суббота, значит, жду во вторник в этот же час. Время пошло!
Я невольно глянул на старинные кабинетные часы с боем. Стрелки показывали без двух минут два. Когда я уйду, у меня будет в запасе семьдесят два часа, а у Игоря Степановича — чуть больше минуты, чтобы стереть с лица дежурную улыбку и приготовиться к приему следующего посетителя. Уверен, что ему этого времени будет достаточно.
— Сюда, Сергей Владимирович, в эту дверь, пожалуйста. Это мой персональный лифт. — Дверей у Игоря Степановича было на одну больше, чем у Ирины Аркадьевны. Одна вела в приемную, я знал, другая — в персональный лифт, третья, надо полагать, в комнату отдыха — с персональным туалетом и персональным душем. А вот четвертая… — Внизу покажете карточку, вам дадут машину и доставят куда прикажете.
— Я лучше пешком. Хочется, знаете, как-то все это обдумать не спеша, на свежем воздухе.
— Как вам будет угодно.
14
Я знаю, куда ведет четвертая дверь. Знаю. За ней точно такая же кабина, в какой я спускаюсь с четырнадцатого этажа, но когда человек входит в нее и дверь автоматически закрывается, пол вдруг уходит у несчастного из-под ног, и он с воплем валится в зияющую бездну, в огромный мусоросжигатель — где его и сожгут, так что следов от него не остается, только пепел, смешанный с пеплом огромного количества сожженных бумаг. А вопля никто не услышит, звукоизоляция тут превосходная. Если бы я не прошел этот чертов тест, я бы тоже вошел в ту кабину, и сейчас меня уже обшаривали бы ловкие руки мусорщиков, и тысяча долларов в синем конверте стала бы для них премией за ударный труд…
С такими мыслями вышел я из лифта в темноватом и пустоватом после четырнадцатого этажа подвале, где мне вежливо поклонился, увидев в моей руке заветную карточку, типичный охранник: кобура на поясе, маленький наушник в ухе, короткая стрижка и внимательный взгляд. Ни о чем не спрашивая, он вывел меня из подземного лабиринта и оставил на свежем воздухе одного.
Свободен! Наконец-то свободен!
Не знаю почему, но я верю Игорю Степановичу: если я порву в клочья список друзей, если выброшу в урну нарядную карточку с номером его телефона (ничего больше: ни имени-отчества, ни должности, только тисненный золотом логотип банка и номер) и уйду с конвертом кармане, неприятностями мне это не грозит.
Я действительно свободен: свободен браться за воспоминания или не браться за них никогда…
Свободен напиться до зеленых чертей — благо средства это теперь позволяют…
Свободен шататься до вечера по залитым солнцем улицам, не думая ни об Игоре Степановиче, ни об отложенной докторской диссертации…
Свободен… да — свободен вернуться домой и засесть за эти чертовы воспоминания, потому что свобода — это осознанная необходимость, а я осознаю необходимость этих десяти тысяч долларов — и готов хоть сейчас сесть за работу, пока не пророс в душе соблазн остаться чистеньким, довольствуясь тем малым, что я уже получил.
Но я не сделаю этого. Не побегу к письменному столу, к компьютеру. К чему? Память не нуждается в приспособлениях. Моя память всегда при мне. И я с таким же успехом могу включить ее за столиком кафе-мороженое. Того самого, где сидели мои жены — бывшая и будущая. А теперь буду сидеть я.
Я буду пить белое сухое вино, есть крем-брюле — и друзья детства, с которыми изрядно было съедено мороженого и выпито сухого вина, незаметно подойдут к столику и сядут, невидимые, рядом и расскажут мне все, что я хотел о них вспомнить. И не нужны мне даже авторучка и записная книжка, потому что как только механизм памяти заработает, его уже невозможно будет остановить, и все, что мы вспомним с друзьями за столиком кафе, будет со мной так долго, как я сам этого захочу.
— К сожалению, у нас нет крем-брюле.
Вот так на ерунде, на мороженом, чей вкус запомнился и полюбился с детства, все может сломаться и оборваться. Как же я включу заржавевшие от времени механизмы памяти, если не изведаю вновь полузабытого лакомства?
— А что же у вас есть?
— Мы торгуем от Баскина и Робинса, — переиначил на русский манер халдей название фирмы. — У них есть сорт… вот этот, — ткнул он в меню ухоженным, с отполированным ногтем мизинцем, — точь-в-точь крем-брюле.
— Неси.
Все меняет название и цену, а вкус остается. Вкус крем-брюле и вкус унижения — привычная цена посещения начальственных кабинетов. Как бы сладко ни встречали ирины аркадьевны и игори степановичи, в осадке всегда остается горечь. Умеют начальники дать тебе понять, что даже если по видимости они нуждаются в тебе, на самом деле это ты в них нуждаешься, тебе от них что-то нужно: деньги, работа, научная степень…
Понять бы еще, что именно требуется от меня!
На кой черт им, спрашивается, мои воспоминания? В чем их цель, их выгода?
И какая связь между подкупающей улыбкой Ирины Аркадьевны и до кишок просвечивающим взглядом Игоря Степановича?