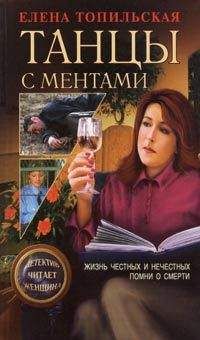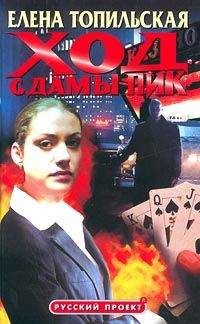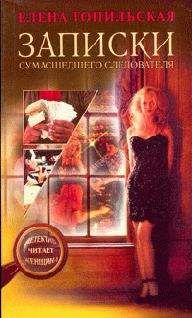Так вот, у него красивая, элегантная мама, которой такой самолюбивый мальчик, как Эдуард, вполне может гордиться, а он тем не менее избегает говорить о ней, редко бывает дома, не имеет друзей в своем кругу, зато почему-то тянется к гопникам, пьяницам намного старше его, свой первый сексуальный опыт получает не с юной девушкой, а со старой толстой теткой в притоне, и ненавидит все, что случилось, до такой степени, что совершает ужасную вещь, за которую будет расплачиваться всю жизнь.
Наверняка он свою мать и любил, и ненавидел. Она, действительно, незаурядная женщина, привлекательная, но холодная, это и по Эдику заметно — в семье, где мать ребенка любит, дети не вырастают такими замкнутыми и отчужденными. Я знаю, что бывают такие женщины, их даже порочными не назовешь, просто они к своим детям равнодушны; а особенно если есть бабушка, на которую ребенка можно спихнуть…
И почему-то именно таких матерей дети безумно любят, какой-то истерической любовью. Первый раз я это обнаружила давно, меня в отделении милиции попросили посидеть с восьмилетним мальчиком перед его отправкой в интернат, пока за ним машина не придет, и рассказали, что мама мальчика в тюрьме и как раз в тот день в суде решается вопрос о лишении ее родительских прав, а сам мальчик все время сбегает из интерната домой, где живет со старшим братом-наркоманом, ест то, что подберет на помойке, спит в куче грязного тряпья… Было это третьего января, в первый рабочий день после Нового года. Меня предупредили, чтобы я смотрела за ним в оба — он воспользуется любой возможностью, чтобы сбежать; он и правда сначала принялся меня уговаривать, слезно и жалобно, отпустить его, потом решил взять хитростью: заныл, что очень хочет есть, а дома у него лежит пряничек, он только пряничек съест и поедет в интернат; все это сопровождалось сложенными перед собой ручками и умоляющим взором. Я сказала, что накормлю его, и достала свой завтрак — бутерброд с черной икрой, остатки роскоши с новогоднею стола; он внимательно осмотрел бутерброд со всех сторон и протянул: «Он что, с маслом, да?» — «А что, ты масло не любишь?» — «Не знаю, наверное, не люблю; я масло всего два раза в жизни ел; а это что за грязь на нем?» Я не сразу поняла, что это он про икру. Выяснилось, что икру он не только не пробовал, но и никогда в жизни не видел… Я спросила его, почему он не хочет в интернат, где его кормят, учат, где он спит на чистом белье, а этот мальчик со стариковскими глазами мне ответил: «Тетя, разве может ребенку быть хорошо в доме, где решетки на окнах?», и тут же стал причитать: «Мамочка моя, мамочка, только бы ее не лишили родительских прав, вот освободится она, придет домой, мы будем так хорошо жить с ней, только бы ее прав не лишили…» Вот мой сын меня так не любит; он относится ко мне спокойно; может быть, он потом задумается о том, что я для него значу, но пока воспринимает меня как должное, как элемент его щенячьей жизни, а не объект любви. А вот брошенные дети — с какой страстной силой, на надрыве, они любят родителей, от которых ничего, кроме горя, не видели…
— Вы что, считаете, что у меня эдипов комплекс? — наконец спросил Соболев.
— В каком-то смысле — да, Эдик. Только у вас более сложное отношение к матери, вам хочется как можно больнее уколоть ее, причинить ей страдание, чтобы она наконец заметила вас. Хотя, возможно, я ошибаюсь.
— Нет, — задумчиво сказал он. — Думаю, что нет.
После этих слов он даже отодвинул от себя дело, лежавшее на столе. Потом, не глядя на меня, придвинул его и невидящими глазами уставился в раскрытый том, долгое время не переворачивая страниц. Минут через двадцать, прошедших в молчании, я тихо открыла сумку, достала старый журнал, прихваченный мной в Лешкином кабинете для чтения в дороге. Им оказалась древняя «Смена» с «Изгоняющим дьявола». Я стала медленно перелистывать журнал и через некоторое время услышала голос Соболева:
— Мария Сергеевна, я готов подписать протокол ознакомления. Больше читать не буду. Отправьте меня назад в камеру. Извините, сейчас я никудышный собеседник.
— Хорошо, Эдик, я понимаю.
Я нажала кнопку вызова конвоя и стала заполнять талончик на Соболева — когда прибыл, когда убыл.
— А вы не могли бы дать мне что-нибудь почитать с собой в камеру? А то разговаривать мне там не с кем, меня от этих рыл воротит, а книжки в тюрьме, сами знаете… — Все это он говорил, не поднимая на меня глаз.
— Эдик, а как вообще — в камере не обижают?
— Да нет, что вы, — он коротко рассмеялся, по-прежнему не глядя на меня, — у меня статья хорошая, меня не трогают.
— Хотите этот журнал, больше у меня ничего с собой нет.
— Завтра я вам верну.
— Можете не возвращать, Эдик, журнал старый.
— А «Изгоняющий дьявола»? Это же раритет.
— Нет, Эдик, эту вещь я бы не хотела иметь в своей библиотеке.
— Да что вы! — тут он впервые посмотрел на меня. — Это классная вещь, я ее читал и перечитывал. Люблю ее аромат.
— Аромат дьявольщины?
— Да ну, Мария Сергеевна, вы же понимаете, о чем я говорю. — Он опять помрачнел. — Завтра вы с утра придете?
— Постараюсь. Как договорюсь с вашим адвокатом.
— Вы, наверное, придете вместе…
— Скорей всего.
— Значит, завтра мы уже не поговорим…
Эдик замолчал, и тут открылась дверь следственного кабинета: за ним пришел выводной. Эдик встал, бросил на меня странный взгляд, и я сказала выводному:
— Извините, у нас тут еще вопрос возник, оказалось, что мы еще не закончили. Чуть попозже я вас вызову.
Выводной, недовольно ворча, ушел, и Эдик, сев на свое место и заметно поколебавшись, наконец заговорил:
— Мария Сергеевна, я буду вас вспоминать. Жаль, что мы больше не встретимся. Если бы вас за доследования не наказывали, я бы на суде обязательно что-нибудь придумал, и мы бы снова увиделись. — Он слабо улыбнулся. — У вас есть еще минут десять?
— Конечно, я же рассчитывала пробыть здесь с вами целый день.
— Я хотел рассказать вам об одной вещи. Вдруг вам пригодится… Я давно ломаю над этим голову, но так и не понял, в чем тут дело. Может, вы мне объясните? Я здесь уже в третьей камере… Так вот, когда меня только привезли в изолятор, я сидел в камере, где нас было семеро, все с убойными статьями, кроме одного, он попал за изнасилование и говорил, что дело у следака не клеится, и что его скоро освободят. И один из мужиков стал к нему подкатываться на тему, что тот будет делать, когда откинется: есть ли у него родные, есть ли ему, где жить, работает ли он. Тот рассказал, что живет в общаге, родных нету, и мужик, который с ним все разговоры разговаривал, вцепился в него мертвой хваткой, осторожно выяснил, как у того со здоровьем, вплоть
До целости зубов, а потом стал намекать, что есть работа. Стал говорить, что он даст адрес фирмы, куда надо обратиться, работа непыльная, денежная, главное — только не звонить про нее, поскольку количество желающих резко превысит число вакансий.
— И что, согласился этот парень?
— Я не знаю, о чем они договорились, я особо не вникал, просто краем уха слышал их беседы, там же деться некуда от общества. Я вообще на это внимания не обратил, и забыл бы, если бы во второй камере, куда меня сунули, не затрепались об этом урки. Один говорил, мол, здесь работу предлагают в обстановке строгой секретности, тем, кто на выходе, а второй, постарше мужик, с тремя ходками по кражам, сказал, что были идиоты, которые соглашались, и их после этого больше никто никогда не видел. Эти урки долго мусолили идею, что тех, кто соглашается, нутриям скармливают, но вот я думаю: нутриям-то можно и больных скормить, почему же тот мужик-так здоровьем интересовался? Может, там какая-то школа киллеров? Раз здоровеньких подбирают? А те задание выполнят, и их самих зачищают.
— Надо подумать, Эдик.
— Развлекитесь па досуге, Нсли это вам пригодится, мне будет приятно.
— В любом случае — спасибо за доверие.
Мы распрощались, Эдик забрал журнал и ушел с конвойным. По дороге из изолятора я прикинула, кому отдать тему с загадочными работодателями, и решила, что расскажу кому-нибудь из РУОПа, может, и правда, киллеров вербуют? А моя голова была пока занята более насущными проблемами, и похоже, что в этом вопросе мне никто помочь не мог.
Двухдневные раскопки, предпринятые Горчаковым в картотеке потеряшек, не принесли ни малейшего результата. Вернее, результат был — отрицательный: ничего похожего на исчезнувший труп картотека не содержала. Навалом было сведений о пропавших молодых мужчинах лет тридцати-тридцати пяти, но самым интересным оказалось то, что отсутствие особых примет стало главной особой приметой.
Те пропавшие без вести, у которых не было татуировок, поголовно перенесли аппендицит; те, у кого никогда не воспалялся аппендикс, были лысыми или коротышками, не подходящими нам по росту; двое удовлетворяли бы нас почти по всем параметрам, да у одного из них было ампутировано два пальца на руке, а у второго отсутствовала мочка уха.