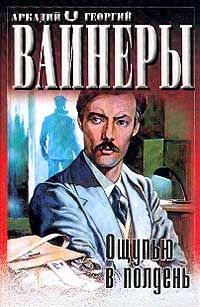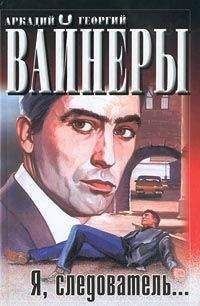— Я думаю, она много чего рассказать может. В лоб не начинай, за жизнь побеседуй… Длинного завтра найди…
— Ну…
— Без «ну». Найди — и точка.
Тихонов ещё раз внимательно перечитал телефонограмму, посмотрел в тёмное заиндевелое окно.
— У нас с тобой, Савельев, есть ещё около девяти часов — надо успеть.
— Чего успеть?
— Найти Длинного.
— Ты что, шутишь?
— Самое время. У тебя дома есть телефон?
— Нет. А что?
— Тогда звони к себе в отделение, скажи, чтоб к жене кого-нибудь послали — предупредить. Дома только завтра будешь, — сказал Стас, достал из стола чистую бумагу и стал писать что-то в столбик. Потом поднял голову, задумчиво посмотрел на Савельева. Оперативник дремал на стуле. Почувствовав взгляд Тихонова, встряхнулся, зябко поёжился.
— Стас! А Стас, есть очень хочется…
— Сочувствую. Мне тоже.
— Идём вниз, в буфет. Работать после будет легче.
Тихонов взглянул на часы:
— Двадцать минут одиннадцатого. Уже закрыто. Теперь буфет по ночам не работает.
— Чего так? — спросил недовольно Савельев.
— Наверное, в связи с сокращением преступности, — пожал плечами Стас. — А есть действительно убийственно хочется. Представляешь, сейчас бы шашлычок по-карски? А? И бутылочку-другую «Телиани»?
— Ой, не мучь!
Тихонов пошарил в карманах, нашёл рубль, пригоршню мелочи.
— Давай, Савельев, шапку в охапку и — чеши в гастроном на улицу Горького. Там до одиннадцати. Колбаски любительской возьми и булок. За полчаса обернёшься. А я пока чай смастерю и подготовлю фронт работ.
Савельеву не очень-то хотелось выходить сейчас на мороз, но перспектива просидеть голодным всю ночь тоже не слишком грела…
Тихонов допил чай, стряхнул крошки и колбасные шкурки в пустой пакет, ловко бросил его через всю комнату прямо в корзину.
— Ну, хватит, что ли, тешить плоть? Ты ещё свой ужин не отработал. Не хлебом единым жив оперативник! — сказал Тихонов.
— Конечно, не хлебом, — буркнул Савельев, — за работу в твоей бригаде молоко надо получать — вредное производство.
— Садись, старик, рядом, и, как говорят в Одессе, слушай сюда. Здесь список телефонов. Я разделил его поровну. Бери аппарат и начинай…
Заканчивался пятый день поиска.
Тусклый зимний рассвет вползал в окно неслышно, мягко, как кошка. Тихонов нажал кнопку, настольная лампа погасла, и знакомые очертания предметов, потеряв свою чёткость, расплылись в голубом сумраке кабинета. Веки были тяжёлые, будто налитые ртутью, а голова — огромная и звенящая, как туго надутый аэростат.
Тихо посапывал Савельев. Он устроился на четырёх стульях у стены, подложив шинель Тихонова и накрывшись своим стареньким пальто какого-то невероятного розового цвета.
Стас встал, потянулся, потёр кулаками глаза и медленно, вязко, как о чём-то постороннем, подумал, что сегодня, наверное, всё кончится и тогда можно будет спать, спать, спать. Он подошёл к Савельеву, легко потряс его за плечо:
— Вставай, вставай, старик! Уже четверть девятого…
Савельев резко дёрнулся, не открывая глаз, сунул руку под голову, под шинель, наткнулся на спинку стула и проснулся. Он сел, улыбаясь, всё ещё с закрытыми глазами, сказал:
— Сон хороший снился…
На его бледном лице затекли от сна складки, набрякли глаза. Приглаживая руками красную шевелюру, спросил:
— Стас, у тебя зеркала нет? Видок, наверное, тот ещё!
— Ты ангорского кролика видел? Сходство сейчас замечательное.
— Он же белый, по-моему? — недоверчиво протянул Савельев.
— Цвет и выражение глаз одинаковые.
— У тебя, между прочим, сходство с киноактёром Тихоновым сейчас тоже минимальное, — ехидно заметил Савельев. — Слушай, Стас, а сколько я проспал?
— Часа полтора верных. Ну всё, старик, поехали. Поезд приходит в девять десять. Значит, в полдесятого я здесь, а ты бери Длинного и прямо сюда…
Панкова сказала:
— Учтите, что в двенадцать у меня репетиция.
— Собственно, длительность нашего разговора зависит от вас. Мне-то всего пару вопросов надо задать.
«Красивая женщина, — подумал Стас. — Хотя времечко уже и начало точить эту красоту. Хорошо держится».
— Итак, приступим к делу. Расскажите, пожалуйста, что вам известно о взаимоотношениях в семье Ставицких?
— Ах, так трудно говорить с посторонними об интимной жизни своих близких!
— Ничего страшного, Зинаида Фёдоровна, — успокоил Стас. — В милиции, в исповедальне и у доктора интимные стороны жизни охраняются профессиональной скромностью собеседника. Так я вас слушаю.
— С Алёшенькой Буковой мы дружим уже лет пятнадцать…
— Вы имеете в виду Елену Николаевну?
— Да, конечно. Мы все её так называем…
Панкова говорила страстно, похрустывая длинными красивыми пальцами:
— Тяжкая драма. Развалилось окончательно это тёплое, доброе человеческое гнездо, созданное тонким интеллектом Буковой и высоким артистизмом Ставицкого. А Алёшенька ещё надеется…
Высокая, ещё стройная, в изящном костюме джерси, она время от времени вставала и нервно ходила по кабинету. «Ишь затянулась… — неприязненно посмотрел на неё Тихонов. — Был бы я режиссёром — сразу на третью категорию обратно бы перевёл…»
— Простите, а чем вы объясняете уход Ставицкого от жены?
— М-м, точно я не могу этого утверждать, но чем вас, интересных женатых мужчин, можно скорее совратить с пути истинного? — кокетливо сказала она. — Как говорят французы: «Шерше ля фам»[2].
— Я только интересный, но неженатый, — сказал Тихонов, напряжённо думая о чём-то.
— Ну, тогда у вас ещё всё впереди, — заверила Панкова.
— А вы не знаете, где надо искать эту женщину? — спросил Стас.
— Право, затрудняюсь вам сказать. Это ведь только мои догадки.
— И Букова тоже не знает?
— Скорее всего — нет. Она бы мне сказала.
— Прекрасно. У меня будет к вам просьба: напишите мне обо всём этом. Можно покороче. Раз в шесть.
Звонок. Стас рванул трубку.
— Тихонов. Да, да, слушаю, Савельев. Куда?! На работу? Совместительство? Давай туда. Жду. Удачи, старик.
Панкова за соседним столиком быстро писала объяснение. Тихонов подошёл к окну. По заснеженной Петровке сновали троллейбусы, женщина несла перед собой, как щит, новый латунный таз, лениво протащила свой возок мороженщица. Тихонов негромко барабанил пальцами по стеклу, напевая под нос:
А на нейтральной полосе цветы
Необычайной красоты…
Прошло утреннее оцепенение, его уже сотрясал азарт охотника, идущего по верному следу. Всё, сеть заброшена…
— Всё, я написала.
Стас подошёл к столу, взял у Панковой объяснение, прочитал. Довольно улыбнулся, положил листок в стол.
— Вот видите, наша беседа заняла меньше часа. Давайте я вам отмечу пропуск на выход.
— Прекрасно, я как раз успеваю в театр.
Тихонов поставил на пропуске свою корявую, немного детскую подпись и потянулся к тумбочке за штампом. Достал, подышал на него. Панкова встала. Стас ещё раз дыхнул на штамп и отложил его в сторону.
— Простите, Зинаида Фёдоровна, я забыл вам задать ещё один вопрос.
— Пожалуйста.
Стас тихо сказал:
— Вы зачем писали письма с угрозами Тане Аксёновой?
Панкова бледнела стремительно, кровь отливала от лица, как будто сердце её остановилось.
— Какие п-письма? Я вообще не люблю писать письма. И я не знаю никакой Аксёновой.
— Не знаете? Но это же вы предложили — «шерше ля фам»?
— Боже мой, если вы говорите об истории со Ставицким, то я не имею к этому никакого отношения.
— Вот что, Зинаида Фёдоровна. Если вы хотите успеть на репетицию, то давайте не будем транжирить наше время. Хотя боюсь, что на репетицию вы сегодня всё равно не попадёте. А роль благородной подруги из вашей пьесы вам придётся репетировать здесь, со мной.
— Не запугивайте меня! — крикнула Панкова, и из глаз её брызнули слёзы. — Театральная общественность не допустит!.. Вы ещё молоды…
— Чего не допустит театральная общественность? Моей молодости? — спросил вежливо Тихонов. — Наоборот, она её скорее будет приветствовать. Так, знаете ли, интереснее…
— Вы — мальчишка, — сказала Панкова, и лицо её теперь покрылось красными пятнами.
Стас покачал головой:
— Как жаль, что мы не в магазине. Там хоть висят плакаты «Будьте взаимно вежливы!». Тем более что я ещё не понимаю причины вашего гнева и испуга.
— Вы меня напрасно пытаетесь впутать в эту неприглядную историю! Сейчас не бериевские времена! — кричала Панкова.
— Ну-ка, тише, — вдруг резко сказал Стас, и Панкова сразу смолкла. — Насчёт времён вы правильно сказали. А в скверную историю вы себя впутали сами.