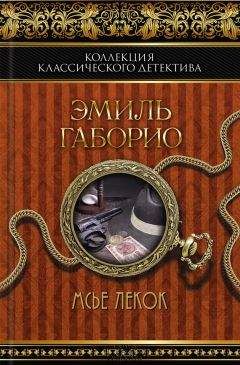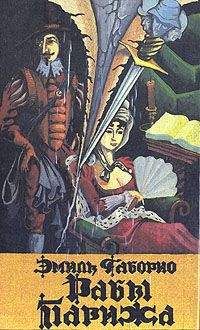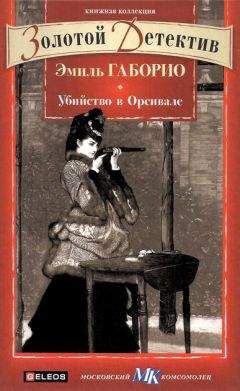Уловом полицейских, если так можно выразиться, стали табак в бумажном пакете, носовые платки без маркировки, пачки сигарет.
В кошельке пожилого мужчины лежали шестьдесят семь франков, более молодой имел при себе два луидора…
Полиции редко доводилось сталкиваться со столь серьезным делом, о котором практически ничего не было известно.
За исключением самого факта убийства, подтверждаемого телами трех жертв, полиция ничего не знала ни об обстоятельствах, ни мотивах преступления. А предполагаемые вероятности не только не рассеивали мрак, а напротив, сгущали его.
Разумеется, оставалась надежда, что со временем упорство, настойчивые поиски и проверенные способы расследования, которыми располагала Сыскная полиция, помогут докопаться до правды… Но пока все было покрыто завесой тайны. Более того, возникал вопрос: преступление какого рода было совершено?
Убийцу арестовали, но он замкнулся в своем молчании. Так как же узнать, как его зовут? Он уверял, что невиновен. Так как же уличить его, предоставив доказательства его вины?
О жертвах вообще ничего не известно… Но одна из них обвиняла себя.
Необъяснимая сила заставила вдову Шюпен проглотить язык.
Две женщины, одна из которых потеряла в «Ясном перце» серьгу стоимостью в пять тысяч франков, стали свидетельницами драки… а потом исчезли.
Сообщник, дважды продемонстрировавший неслыханную отвагу, сбежал…
И все эти люди – убийца, женщины, хозяйка кабаре, сообщник и жертвы – были в равной степени подозрительными, странными, вызывали беспокойство. Их всех можно было заподозрить в том, что они были не теми, за кого себя выдавали.
Удрученный комиссар стал подводить итоги. Возможно, он думал о том, что вскоре ему придется пережить несколько неприятных минут, когда он будет отчитываться в префектуре полиции.
– Ну, – сказал он, – надо перевезти этих типов в морг. Там их, несомненно, опознают.
Нахмурившись, комиссар добавил:
– Подумать только! А ведь один из покойников вполне может быть Лашнёром…
– Вряд ли, – откликнулся Лекок. – Мнимый солдат умер последним. Он видел, как упали его приятели. Если бы он был уверен, что Лашнёра убили, он не стал бы говорить о месте.
Жевроль, предпочитавший все это время стоять в стороне, подошел ближе. Он был не из тех, кто сдается, даже вопреки очевидности.
– Если господин комиссар, – начал он, – изволит меня выслушать, он разделит мою точку зрения, намного более убедительную, чем фантазии господина Лекока.
Шум останавливающегося у дверей кабаре экипажа заставил Жевроля замолчать. Чуть позже в кабаре вошел следователь.
В «Ясном перце» не было никого, кто не знал хотя бы в лицо приехавшего следователя. Жевроль тихо произнес его имя: «Господин Морис д’Эскорваль».
Следователь был сыном знаменитого барона д’Эскорваля, который в 1815 году чуть не поплатился жизнью за верность Империи. Это о нем Наполеон, сосланный на остров Святой Елены, с восхищением говорил: «Думаю, есть люди, такие же порядочные. Но чтобы были более порядочные… Нет, это невозможно».
Поступивший на службу в магистратуру совсем молодым, наделенный удивительными способностями, господин д’Эскорваль, казалось, должен был сделать головокружительную карьеру. Но он обманул всеобщие чаяния, упорно отказываясь от всех должностей, занять которые ему предлагали, чтобы исполнять в суде департамента Сена свои скромные и крайне полезные обязанности.
Объясняя свои отказы, он говорил, что дорожит жизнью в Париже больше, чем самым заманчивым продвижением по службе. Никто не мог понять причину столь странной привязанности. Несмотря на влиятельные связи и весьма значительное состояние, перешедшее к нему после смерти старшего брата, д’Эскорваль жил уединенно, скрывал от посторонних глаз свою жизнь, давал о себе знать лишь упорным трудом и благотворительной деятельностью.
В свои сорок два года он выглядел моложе своего возраста, хотя у него уже появились залысины. Лицо д’Эскорваля можно было бы назвать приятным, если бы его не обезображивала неподвижность, вызывающая беспокойство, если бы его тонкие губы не искривлялись в саркастической ухмылке, а светло-голубые глаза не глядели столь угрюмо. Недостаточно сказать, что он был холодным и суровым. Его суровость и холодность граничили с высокомерием…
Ужасное зрелище, представшее перед глазами д’Эскорваля, настолько поразило его, что он едва поздоровался с врачами и комиссаром полиции. Остальные для него ничего не значили.
Д’Эскорваль сразу же задействовал всю свою энергию. Он принялся осматривать помещение, подолгу задерживая свой взгляд даже на самых незначительных предметах. Делал он все это с внимательной мудростью следователя, который знает цену любой детали и понимает красноречие внешних обстоятельств.
– Это серьезно!.. – наконец сказал он. – Очень серьезно!..
Вместо ответа комиссар полиции поднял руки к небу. Его жест означал: «Кому вы это говорите!»
Дело в том, что вот уже в течение двух часов славный комиссар находил, что на его плечи легла слишком серьезная ответственность, и благодарил магистрата за то, что тот избавил его от нее.
– Господин прокурор Империи не смог приехать со мной, – продолжал господин д’Эскорваль. – Он не может поспевать повсюду. Сомневаюсь, что у него появится возможность присоединиться ко мне. Итак, начнем…
До этого момента любопытство присутствующих не было удовлетворено, и комиссар, выражая общие чувства, сказал:
– Господин следователь, несомненно, допросил виновного и знает…
– Я ничего не знаю, – прервал комиссара господин д’Эскорваль, которого, казалось, очень удивило подобное вмешательство.
С этими словами господин д’Эскорваль сел за стол и принялся читать рапорт Лекока, в то время как его секретарь заносил в протокол предварительные сведения.
Забившись в тень, молодой полицейский, бледный, взволнованный, дрожавший от нетерпения, старался понять по невозмутимому лицу следователя, какие чувства тот испытывает. От этого зависело его будущее. Да, его будущее зависело от одного слова магистрата: «да» или «нет».
Сейчас Лекок обращался не к тупому уму, как у папаши Абсента, а к высшей проницательности.
«Если бы, – думал молодой полицейский, – у меня была возможность все объяснить!.. Что значат написанные слова по сравнению со словами высказанными, живыми, подтвержденными мимикой, дрожащими от эмоций и убеждений того, кто их произносит…»
Но вскоре Лекок немного успокоился.
Лицо следователя было по-прежнему неподвижным, однако он качал головой в знак одобрения. А порой та или иная подробность, особенно ловко подмеченная, вызывала у него восклицание: «Неплохо!.. Очень хорошо!»
Закончив чтение, следователь обратился к комиссару:
– Все это совершенно не похоже на ваш утренний доклад, в котором вы обрисовали это запутанное дело как потасовку между несколькими жалкими бродягами.
Замечание было более чем справедливым, и комиссар пожалел, что остался лежать в теплой постели, полностью доверившись Жевролю.
– Сегодня утром, – уклончиво ответил комиссар, – я высказал лишь свое первое впечатление… Последующие поиски изменили его… Таким образом…
– О! – прервал его следователь. – Я вас ни в чем не упрекаю. Напротив, хочу поздравить вас… Нельзя действовать ни лучше, ни быстрее. Вся эта информация свидетельствует об огромной проницательности, а результаты изложены с удивительной ясностью и редкой точностью.
Лекок засиял от радости. Комиссар же на мгновение задумался. Уж слишком велико было искушение присвоить эту похвалу себе. Но он не поддался ему, поскольку был честным человеком. К тому же комиссару хотелось расстроить козни Жевроля, наказать его за легкомыслие и самонадеянность.
– Должен признаться, – произнес комиссар, – честь этого расследования принадлежит не мне.
– Тогда кому ее приписать, если не инспектору Сыскной полиции?
Так думал господин д’Эскорваль, правда, не без удивления. Он давно знал Жевроля и считал его неспособным составить такой превосходный не только по смыслу, но и по стилю рапорт.
– Значит, это вы, – спросил Жевроля следователь, – так ловко провели расследование?
– Право же, нет!.. – ответил служащий префектуры полиции. – У меня на это ума не хватило бы!.. Я довольствуюсь тем, что констатирую увиденное и говорю: вот оно. Пусть меня повесят, если все эти фантазии, отраженные в рапорте, существуют не только в голове того, кто его составлял… Ерунда все это!..
Возможно, Жевроль говорил все это от чистого сердца, поскольку принадлежал к числу людей, которых себялюбие ослепляет настолько, что они отрицают очевидное, бросающееся в глаза.
– Однако, – настаивал следователь, – женщины здесь были, о чем свидетельствуют эти следы!.. Сообщник, оставивший на брусе шерстяные нитки, тоже реальный человек… А серьга… Это реальная, осязаемая улика…