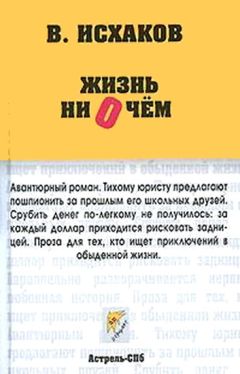Образ, зачатый моим разыгравшимся не к месту воображением, дома, за письменным столом, сформировался окончательно, приобрел законченные, затвердевшие очертания и предстал передо мной таким ярким, таким жизнеподобным, так взволновал меня, что я немедленно встал из-за стола и вышел в лоджию — покурить и успокоиться. Однако едва только я приоткрыл тугую раму, чтобы выпустить дым, и выглянул, как сердце мое начало колотиться. Еще бы оно не заколотилось, и без того возбужденное только что принятым решением мое сердце, при виде такой изумительной картины! Вы только представьте себе: совершенно пустой, будто вымерший, беспощадно залитый жарким июльским солнцем двор, прикрывший кое-где безобразную наготу скудным зеленым покровом, переполненные контейнеры с мусором, и одинокий бомж (!), будто сошедший прямо с этих страниц, копается в мусоре, разгребая его изогнутым ржавым железным прутом. Вот он извлек из кучи отбросов пивную бутылку с прилипшей, как мне сперва показалось, этикеткой, однако, вглядевшись, я с замиранием сердца понял, что это вовсе не этикетка, а один из клочков моей разорванной диссертации — не обязательно тот же самый, с ребенком и огненной, но все же, все же!
О, что за чудное, незабываемое переживание: наблюдать, как только что сотворенный твоим воображением образ одевается плотью, начинает жить, дышать, кашлять, сморкаться (только что мое творение облегчило нос при помощи пальцев; в другое время я разразился бы филиппикой в адрес невоспитанного русского народа, но не сейчас, только не сейчас!), как он выбирает из мусора бутылки из-под молока и из-под пива, как читает написанный тобою текст, обрывок текста, и, дочитав, не выбрасывает, а сует в карман длинного, давно потерявшего первоначальный цвет балахона и уходит — уходит в жизнь, к людям, как уходили герои, созданные воображением великих классиков. «И мой! И мой тоже!» — шепчу я с умилением, между тем как разыгравшееся не на шутку воображение спешит уступить место трезвому анализу, который подсказывает, что этот долговязый сутулый старик в балахоне болотного цвета кого-то мне напоминает.
Напоминает до такой степени, что я, оставив сигарету тлеть в пепельнице на подоконнике, вернулся в комнату за складной восьмикратной подзорной трубой — одной из тех странных вещиц, которых у Майи можно обнаружить во множестве. Для чего, спрашивается, женщине подзорная труба? Театральный бинокль еще куда ни шло, но труба, наводящая на мысли об одноглазых пиратах (потому что окуляр один, для одного глаза), шпионах, охотниках…
Я не ошибся. Это лицо действительно мне знакомо. И не скрою: видеть его отсюда, сверху, из лоджии на шестом этаже, ощущая спиной уютное чрево приютившей меня квартиры, видеть его в нынешнем безнадежном жалком положении доставляет мне мстительное удовольствие. Потому что сутулый старик с унылыми висячими усами и длинными седыми волосами до плеч, в черной помятой шляпе и балахоне болотного цвета, старик этот в некотором смысле мой отец.
2
Лишь недавно мне стало известно, каким образом моя мать когда-то использовала этого дряхлого бомжа. Который не был тогда бомжем и не казался дряхлым, а был, напротив, крепким, смазливым, щеголеватым молодым человеком и заведовал в районном Дворце культуры танцевальной студией — и мать использовала руководителя студии с удивительно подходящей ему фамилией Миляга, чтобы сперва научиться у него танго, вальсу и другим, более экзотическим европейским и латиноамериканским танцам, затем с его помощью произвести на свет меня, а позже, когда я немного подрос, отдать меня в кружок бальных танцев, только не к Миляге, а к другому преподавателю, и дома, когда не было рядом партнерши, помогать мне разучивать какое-нибудь трудное па. Как она впоследствии признавалась, танцевать со мной ей было и проще, и сложнее, чем с посторонним мужчиной; проще, потому что ученик я был ужасно способный (гены!), а труднее — потому что я уже тогда, подростком, слишком походил на своего физического отца, Милягу, и ей все время казалось, что это он ведет ее в танце, а не я, и слишком отчетливо представлялось то, что произошло однажды в пустом танцевальном зале, когда другие кружковцы уже разошлись…
Определение «физический отец» как нельзя более подходит к Миляге. Ни на что большее он не претендовал, да и не мог претендовать, поскольку не догадывался, какую роль отвела ему моя мать. Они не были даже настоящими любовниками — матери нужен был ребенок, которого муж физически не мог ей дать, искусственное оплодотворение тридцать семь лет назад было чистой фантастикой, вот она и воспользовалась Милягой, и к добру ли, к худу ли, но первая же попытка оказалась удачной.
— Он хоть хорош был? — зачем-то спросил я, когда мать рассказала мне правду о моем происхождении. Случилось это три года назад, мы оба были уже взрослые люди и могли себе позволить называть вещи своими именами.
— Ты имеешь в виду — как мужчина?
— Разумеется.
— Знаешь, Сережа, совершенно не помню. Нет, честное слово! Это было так быстро… Я думала только о том, что скажу ему, если он вдруг решит воспользоваться презервативом, но ему это и в голову не пришло. Как мне потом объяснила подруга, у которой с ним была настоящая, длительная связь, он считал, что женщины должны сами заботиться о своей безопасности, и не хотел портить себе удовольствие. Не думаю, что он был так уж хорош. Не то что твой настоящий отец. Тот до последнего дня, до последней ночи… Но внешне… Внешне он был очень неплох. Высокий, стройный, с длинными прямыми ногами. Словно специально созданный природой для того, чтобы лететь над блестящим паркетом, едва касаясь его подошвами бальных туфель…
Ноги у него и теперь прямые и длинные, зато спина безнадежно согнулась, и глаза потеряли былой блеск, и волосы поседели и поредели — под шляпой он скрывает обширную полированную лысину, обрамленную длинными белыми лохмами. И видом своим он напоминает бездомного бродягу, бомжа, хотя, строго говоря, не является таковым. Он живет пусть и в запущенной донельзя, но все же отдельной однокомнатной квартире в двух кварталах отсюда, получает сносную пенсию, а бутылки собирает только потому, что пенсии ему не хватает на выпивку. Так что я не испытываю угрызений совести, глядя в его согбенную спину, обтянутую балахоном болотного цвета, и не считаю нужным бежать за ним с криком: «Папа! Папа!» В конце концов, он ведь получил свое маленькое удовольствие однажды, тридцать семь лет тому назад.
3
Мой настоящий отец — таким он был для меня всю жизнь, таким навсегда и останется в отличие от отца физического — присутствовал при нашем с матерью разговоре, но не вмешивался в него. Он молча лежал на столе, одетый в парадный полковничий мундир, который не надевал с тех пор, как вышел в отставку, но который пришелся ему впору, будто отец нарочно занимался гимнастикой и до последнего дня бегал по утрам наперегонки с рыжим ирландским сеттером по кличке Трезор, чтобы в последний путь отправиться одетым по всей форме, как и подобает настоящему мужчине, подполковнику, начальнику районного управления внутренних дел.
Сеттера щенком подарили отцу сослуживцы, когда он выходил на пенсию. Отец вначале чуть было не обиделся, усмотрев в дарении щенка легавой породы намек на свою профессию, тем более что охотником никогда не был, потом заинтересовался, попробовал, втянулся, и кончил неожиданным признанием, что, возможно, вовсе не ловля преступников, а именно охота на пернатую дичь была его настоящим призванием, так что ему даже повезло, что его так рано, едва ему исполнилось шестьдесят, выперли на пенсию.
Возможно, он был вполне искренен, мне же всегда казалось, что охота для него была лишь средством, чтобы доказать всем, и в первую очередь самому себе, что он все тот же прежний Милиционер Платонов.
Так прозвали его в нашем районе еще в те годы, когда он был рядовым, но, видимо, незаурядным постовым. По крайней мере имя Милиционер Платонов стало одним из трех-четырех нарицательных имен, известных практически всему району: Директор (домостроительного комбината) Бугаев, Первый Секретарь (райкома партии) Огородников, Военком Власов — и Милиционер Платонов, единственный не начальник, рядовой, обычный милиционер, каких было в районе десятки. Было, надо полагать, в нем что-то особенное, выделяющее из общего ряда, может быть, даже пугающее, если мамаши в районе пугали разошедшихся отпрысков не просто милиционером, как везде, а конкретно Милиционером Платоновым. И меня самого однажды, когда я нашалил на улице — то ли стекло мячом разбил, то ли на рябину забрался ради мелких красных горьковатых ягод, — меня проходящая мимо старая ведьма пугала Милиционером Платоновым и, когда я в ответ захохотал, чуть не прибила железной клюкой. Я прыгал перед нею, показывал ей язык, корчил рожи, однако вдруг каким-то сверхъестественным чутьем уловил приближение серьезной опасности, оглянулся и увидел приближающегося в сумерках отца. Он шел необыкновенно ровным, строевым шагом, хоть по секундомеру проверяй, ровно столько, сколько положено по уставу, шагов в минуту, четко впечатывая подошвы юфтевых сапог в асфальт, металлические подковки при этом чуть слышно позвякивали, лица его и мелких деталей мундира, всех этих кантов, выпушек, петличек, пуговичек в сумерках было не различить, он казался словно вырезанным из одного куска, вырубленным из темного камня. Командор, ну настоящий Командор, как мне теперь, из настоящего, представляется, тогда же мне некогда было предаваться литературным ассоциациям, я позорно бежал, удрал с поля боя, предоставив объясняться с отцом старой ведьме, которая, как мне теперь вспоминается, тоже слегка струхнула, вообразив, должно быть, что ненароком наколдовала, накликала явление Милиционера Платонова, во всяком случае, помнится, она переложила свою клюку из правой руки в левую и истово перекрестилась, а потом (ей-богу, не вру!) перекрестила меня, убегающего, видимо, в душе не желая мне зла…