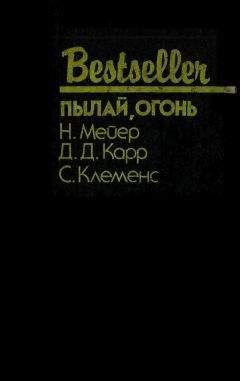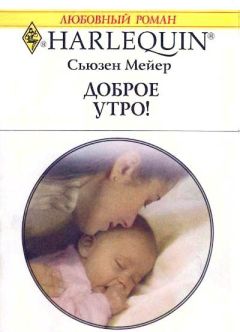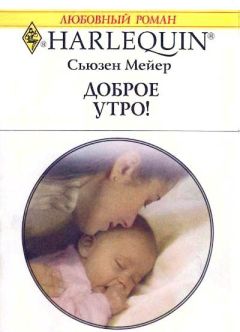Часть 2
РЕШЕНИЕ
Явное нежелание профессора Мориарти возвращаться обратно в Лондон в компании Тоби внесло некоторое комическое оживление в течение этой поистине ужасной недели. Едва только взглянув на пса — днем я пригласил его на совместную прогулку вокруг его отеля в Грабене, — он объявил; что, хотя он преисполнен самых благих намерений (о чем первым делом свидетельствует его поездка в
Вену), но есть пределы его благородства, которые он не в состоянии переступить.
— И граница эта, — сказал он, глядя из-под очков на Тоби, который ответил ему взглядом, полным тепла и доброжелательности, — вот она. Я терпеливый человек и испытываю к вам искреннюю благодарность, доктор Ватсон, но и моему терпению может прийти конец. Я не сказал ни слова о ванильном экстракте, приведшем в полную негодность новую пару ботинок, не так ли? Но это уже чересчур. Я не берусь доставить это животное обратно в Лондон, нет, нет и нет, ни за какие блага мира.
Я был не в том настроении, чтобы шутить с ним, о чем и поставил его в известность. Если он хочет поместить Тоби в багажное отделение, у него есть на то право, но доставить пса на Пичин-Лейн он обязан. Я призвал на помощь авторитет Майкрофта Холмса, и Мориарти, хныкая и стеная, был вынужден принять наше условие.
Я сочувствовал ему, но мы находились не в том положении, чтобы идти профессору навстречу. У меня самого нервы были на пределе, и только теплая телеграмма от жены, говорившая, что дома все в порядке, помогла мне.
Старания Шерлока Холмса избавиться от пут кокаина, были самыми героическими и отчаянными усилиями, которые когда-либо мне приходилось видеть. Ни мой профессиональный, ни личный опыт, ни время военной службы не давали мне возможность припомнить такие мучения.
Доктору Зигмунду Фрейду в первый же день удалось добиться успеха. Загипнотизировав Шерлока, он уложил его спать в одной из комнат на втором этаже, предоставленных в наше распоряжение. Как только Холмс вытянулся на широкой кровати, Фрейд схватил меня за руку.
— Быстрее! — приказал он. — Мы должны обыскать все его вещи.
Я кивнул, поскольку мне не надо было объяснять, что являлось предметом наших поисков, и мы вдвоем принялись обыскивать багаж Холмса и карманы его одежды. Все мои принципы протестовали против такого бесцеремонного вмешательства в личную жизнь друга. Но слишком много было поставлено на кон, и, сжав зубы, я принялся за дело.
Нам не составило трудов найти флакончики с кокаином. Холмс захватил с собой в Вену большое количество , этого снадобья. Просто удивительно, думал я, извлекая их из его саквояжа, что я не слышал позвякивания во время путешествия, но Холмс обернул их в черный бархат, который раньше окутывал его Страдивари. Я испытал чувство боли, увидев, для какой цели он ныне используется, но, вытряхнув флаконы со смертельным зельем, протянул их Фрейду, который тем временем тщательно обыскивал карманы пиджака и дорожного плаща Холмса, где он обнаружил еще два флакона.
— Думаю, что мы справились с задачей, — сказал он.
— Не будьте столь уверены, — возразил я. — Вы имеете дело с не совсем обычным пациентом. — Он пожал плечами, наблюдая, как я, вынув пробку из бутылочки, смочил кончик пальца в прозрачной жидкости и поднес его к губам.
— Вода!
— Не может быть! — Фрейд лично убедился в содержимом флакона и удивленно взглянул на меня. За нашими спинами неловко изогнувшись, спал Холмс. — Где же он в таком случае их прячет?
Испытывая серьезное беспокойство и не зная, когда спящий может проснуться, мы стали напряженно думать. Кокаин должен быть где-то здесь. Вывалив содержимое его саквояжа на роскошный персидский ковер, мы еще раз тщательно обыскали его, но ни облачение бродячего певца, в котором Холмс обманул меня, ни принадлежности для грима ничего нам не дали. Все остальное его содержимое составляло некоторое количество банкнот и несколько его любимых трубок. Я хорошо знал и черный «Бриар», и почерневшую пеньковую, и длинный черенок трубки из вишневого дерева и, рассматривая их, убедился, что ни в одной из них не было потайного укрытия. Здесь же был и кальян, которого я никогда раньше у него не видел. Взяв его в руки, я удивился тяжести, он весил больше, чем можно было предполагать по внешнему виду.
— Взгляните-ка, — сказал я, выдергивая пеньковый черенок и переворачивая сосуд кверху дном. Из него выпал небольшой флакон.
— Я начинаю понимать, что вы имели в виду, — признался врач, — но где же он может их прятать? Трубок у него больше нет.
Стоя над опустошенным саквояжем, мы уставились друг на друга, а потом одновременно запустили руки в него. Фрейд опередил меня на долю секунды. Приподняв саквояж, он взвесил его, задумчиво покачивая головой.
— Тяжеловат, — пробормотал он, протягивая его мне. Засунув руку внутрь, я стал простукивать днище и услышал звук, говоривший о наличии еще какой-то полости. — Второе дно! — воскликнул я и тут же принялся за дело. Через несколько секунд я оторвал его, и тут мы и обнаружили маленький черный футляр, на красном бархате которого покоились иглы и запасы кокаина.
Без слов мы вернули все в прежнее состояние, включая флакончики с водой и футляр, после чего сошли вниз. Проследовав за Фрейдом в ванную на первом этаже, мы вылили в умывальник всю найденную нами жидкость. Сунув в карман шприцы, он препроводил меня на кухню, где горничная, которую звали Паула, вернула в мое распоряжение Тоби, и я отправился в отель к Мориарти.
Здесь я хотел бы сделать паузу и представить вашему вниманию описание города, в котором находился, но где хотел бы провести как можно меньше времени.
Вена в 1891 году была столицей империи, которая переживала последнее десятилетие своего расцвета. Она настолько отличалась от Лондона, насколько море не походит на пустыню. Лондон, неизменно пронизанный сыростью, окутанный туманами и зловонием, обитатели которого говорили лишь на одном языке, ничем не напоминал солнечную раскованность столицы империи Габсбургов. Вместо общего языка обитатели ее предпочитали пользоваться самыми разными наречиями, поскольку прибывали сюда со всех уголков Австро-Венгрии. И хотя землячества старались как-то обособиться в отдельных кварталах города, их границы неизменно перемешивались. В любой день можно было встретить и словацкого коробейника, который предлагал свои резные изделия домохозяйкам из богатых кварталов, и взвод боснийских пехотинцев, маршировавших по Пратеру в составе императорской гвардии, и продавца лимонов из Монтенего, и точильщика ножей из Сербии, тирольцев, евреев, венгров, жителей Моравии и мадьяр, занятых своими повседневными делами.
Город представлял собой ряд концентрических окружностей, в центре которых находился собор Святого Стефана. Здесь же располагался один из самых богатых и старых районов города. Оживленные улицы были заполнены магазинчиками и кафе, а к северу от Грабена, на Бергассе, 19, жил доктор Фрейд. Несколько левее располагались дворец Хофбург, музеи и красивые ухоженные парки, Здесь и кончался «внутренний город». Стены, защищавшие когда-то средневековое поселение, давно были снесены — к удовлетворению императора, — и современный город раскинулся далеко за их пределами. Его очертания определялись кольцом широких бульваров, которые, несмотря на разные наименования, объединялись под общим названием Ринг и охватывали старые кварталы, заканчиваясь у канала, тянувшегося к северу и к востоку от собора Святого Стефана.
Город, как я уже отмечал, перерос свои средневековые границы, очерченные Рингом, и в 1891 году дотянулся до Гюртеля — кольца внешних бульваров, которые еще застраивались, когда я был здесь. Гюртель располагался к юго-западу, примерно на полпути между кафедральным собором Святого Стефана и Шенбруннским дворцом Марии-Терезии — габсбургским подобием Версаля.
Прямо к северу от Шенбрунна и несколько восточнее располагался Банхоф, или железнодорожный вокзал, на который мы с Холмсом прибыли в Вену. Через весь город, пересекая канал, тянулись железнодорожные пути, проходя через район, населенный преимущественно евреями и известный как Леопольдштадт. Именно тут, как рассказывал мне доктор Фрейд, он жил ребенком, когда прибыл с родителями в Вену.
Его теперешний дом гораздо больше отвечал его профессиональным потребностям (Холмс ошибся в одном из своих предположений — Фрейд продолжал быть практикующим врачом). Он был неподалеку от Алгемайне Кракен-хаус — большой венской учебной клиники, в которой Фрейд еще недавно работал. Он числился в отделении психиатрии, руководимом доктором Теодором Мейнертом, отзывавшимся о Фрейде с большим восхищением.
Как и Фрейд, Мейнерт был евреем, но данный факт не являлся исключением в медицинских кругах Вены, где немалую часть составляли евреи. Они же доминировали в интеллектуальной и культурной жизни города. Я не так часто встречал евреев и посему почти ничего не знал о них, хотя, могу смело утверждать, был свободен от всякого предубеждения, источником которого, как правило, является невежество. Насколько мне стало ясно, Фрейд был не только блистательным ученым и культурным человеком, но и просто обаятельной личностью, и я убедился (хотя и был несогласен с некоторыми шокирующими аспектами его теории), что именно эти его 4Ьловеческие качества и внушали пациентам веру в него — кстати, даже когда он сам был недостаточно уверен в себе.