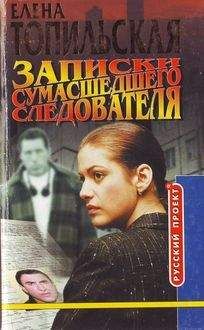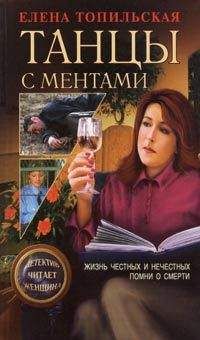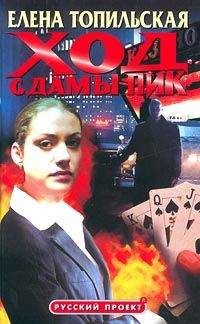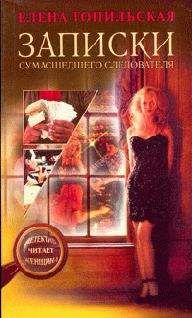Контраст оказался мне на руку – между нами установился такой контакт, о котором можно только мечтать. При этом, смею утверждать, я была так же интересна ему, как и он мне. Встречаясь на допросах и решив процессуальные вопросы, мы взахлеб общались, рассказывая друг другу интересные истории, разговаривая о смысле жизни. Я летела в тюрьму как на свидание. Но этот человеческий интерес, поверьте, ничуть не мешал мне осуществлять свои профессиональные обязанности. После одной очной ставки мой подследственный сказал: «Вам бы охотником быть, хорошо ловушки ставите!» Что дало мне моральное право позднее не понимать свою коллегу Воронцову – героиню нашумевшего «Тюремного романса»: нельзя следователю переступать через свой профессиональный долг, что бы ты ни чувствовал к подследственному. А если понимаешь, что не можешь совладать с собой, лучше отказаться от следствия. В истории Воронцовой, укравшей вещественное доказательство и передавшей оружие подследственному для побега, я не вижу ничего трогательного и героического и, понимая журналистов, слетающихся на «жареное» и проэксплуатировавших эту тему на сто двадцать процентов, все же считаю, что вся эта история позорна для прокуратуры и ее лучше всего было бы забыть навсегда.
За время общения с Федоровичем я поняла, что он – неплохой парень, но сорви-голова, который даже против своей воли все время влетает в какие-то авантюры, не в силах удержаться от бравады или желания оставить за собой последнее слово, но при всем этом он – очень добрый и широкий человек. Да еще и мастер на все руки, и работы не боялся – у него было пять рабочих специальностей. Как-то он пришел ко мне на допрос с раздувшейся щекой, сказал, что болит зуб, а к тюремному врачу обращаться бессмысленно – кроме анальгина, он ничем помочь не может. Я все-таки посоветовала ему сходить к доктору, чтобы тот хотя бы вскрыл ему нарыв. А на следующий день флюс у него спал. Я думала, что ему помог доктор, но Федорович сказал, что сам вскрыл себе опухоль. Меня это удивило – чем вскрыл, когда в камерах не разрешается иметь ничего острого и режущего, по понятным причинам. Он, загадочно улыбаясь, сказал, что сделал себе скальпель. Из чего бы вы думали? Из супинатора, извлеченного из ботинка, – металлического стержня в подошве, удерживающего каблук.
Слово свое он держать умел. Не выпендривался, когда я припирала его к стене доказательствами.
Один раз увидел у меня в открытом портфеле книжку и попросил почитать до следующего вызова. Я дала ему книжку и попросила обязательно вернуть в следующий раз, поскольку сама еще ее не дочитала. Он меня заверил, что книга будет в целости и сохранности. А когда я вернулась из тюрьмы в прокуратуру, коллеги меня подняли на смех: как же, так Федорович и будет грудью защищать твою книгу, да они уже давно на ней чифир сварили!
Когда я в следующий раз пришла в изолятор, Федорович торжественно отдал мне мою книгу с благодарностью. Я не удержалась и поделилась с ним своими опасениями – о том, что из книги могли разжечь костерок для чифира. Он лаконично сказал: «Пусть бы кто-нибудь сунулся; это был бы его последний чифир».
И к концу следствия я пришла к выводу, что он искренне перевоспитался, как ни банально это звучит. Мы с ним обсуждали, как ему продержаться в колонии, не сорвавшись, что делать после освобождения? И я, понимая, что если человек решил начать новую жизнь, то ему трудно дождаться, когда он сможет жить по-новому, сделала, на мой взгляд, все, что могла: я рассказала обо всем прокурору, который должен был поддерживать обвинение, и поручилась за Федоровича, а прокурор все рассказал судье. И Федоровичу дали минимум, гораздо ниже того наказания, на которое он мог рассчитывать. После приговора я взяла у судьи разрешение на вызов Федоровича, пришла к нему в изолятор. Как мы с ним радовались, что он получил всего три года!
Он отсидел эти три года и вышел. И, насколько я могу судить, вышел другим человеком – не тем, который совершал преступления, а тем, с которым мы расставались в следственном изоляторе после приговора. А я помню его до сих пор.
Вот только почему-то никогда не устанавливался человеческий контакт с подследственными коллегами. Нет, от расследования дел в отношении собратьев по прокуратуре Бог миловал. Даже если они редкостные скоты, все равно противно уличать своего. А может, это и не так, может, это только у меня такая тонкая душевная организация. Мне, кстати, и обычных подследственных всегда неприятно «колоть» – неудобно показывать человеку, что он врет, а ты это знаешь.
А вот расследовать дела в отношении работников милиции вдвойне неприятно, поскольку они, естественно, не могут забыть, что еще вчера сидели в «Крестах» по ту сторону стола, где стул не привинчен к полу. И то, что в их глазах читается стыд вперемешку с ненавистью, а ты испытываешь стыд за них и неуместное сочувствие, сильно мешает общению на равных. Я единственный раз в своей жизни расплакалась на допросе от досады и злости, когда предъявляла обвинение в хищении в особо крупных размерах начальнику патрульного участка территориального отделения милиции, охранявшему подъездные пути винзавода и поставившего на поток хищение коньяка из прибывающих на завод цистерн. В отстойнике для цистерн с коньяком и вином, которое поэтично называлось Долиной смерти, все знали, что у проводников всегда можно купить стакан спиртного, бутылку и даже канистру, но если ты попросишь мало-мальски крупную дозу, то проводники просто перестанут тебя понимать. Для оптовых закупок ворованного коньяка нужно было либо назвать пароль, либо быть представленным проводнику тем самым начальником патрульного участка.
Управление по борьбе с хищениями соцсобственности полгода висело на хвосте у этих расхитителей, и наконец их взяли с поличным – когда глубокой ночью они выезжали с подъездных путей в милицейском «уазике» с кислородными подушками, наполненными ворованным коньяком. И допрашивая этих милиционеров, я убедилась, что у таких оборотней наступает в определенном смысле раздвоение личности: с одной стороны, они преступники, а с другой – сохраняют менталитет стража порядка. На том самом допросе начальник патрульного участка вывел меня из себя тем, что признал только два эпизода вывоза похищенного с подъездных путей, а третий не признал, объяснив, что в тот раз приехал на подъездные пути, но в погрузке похищенного участия не принимал. «Почему?» – допытывалась я. «Был занят – обходил охраняемый участок». – «С какой целью?» – «С целью выявления и пресечения возможных правонарушений», – был ответ, потрясший меня своим цинизмом. И только позже я поняла, что он искренне отделял свою воровскую деятельность от выполнения служебных обязанностей: воровство само по себе, а служба – службой.
Тогда, десять лет назад, эта бригада воров в милицейских шинелях казалась мне страшной мафией, особенно из-за того, что они все порывались рассказать, как начальство их посылало на подъездные пути за коньяком для проверяющих. Сейчас я ностальгически вспоминаю про этих «мафиози». Наверное, как человек, сбитый «мерседесом», грустит о временах, когда по дорогам отечества ездили в основном «Запорожцы».
С настоящей мафией я соприкоснулась, когда уже работала в отделе по расследованию особо важных дел прокуратуры города (по старой памяти – в следственной части). Но вот тут, дорогие друзья, кончается реальность и начинается фантастика. Прошу запомнить, что того, о чем я расскажу дальше, не может быть, потому что не может быть никогда. И если поверить в то, что все так и было – тогда лучше застрелиться.
Итак, в августе 1993 года я вышла из отпуска. С моим хорошим приятелем – оперативником из района, где я работала до перехода в следственную часть, мы пошли пообедать в одно симпатичное кафе и за столом болтали об общих знакомых.
«Знаешь, – вдруг сказал он, – у нас в районе поговаривают, что Влад Владимиров тут пострелял на мафиозной разборке».
Влада я знала, и меня чуть не перекосило от упоминания его имени. Он работал в отделении, располагавшемся в одном здании с прокуратурой, и мое знакомство с ним произошло, когда у ресторана под кодовым названием «Утюг» (за форму зала) нашли свежий, еще не остывший, труп женщины. Хотя при ней не было ни документов, ни вещей, по которым можно было установить ее личность, мы уже к вечеру знали, что она отмечала в «Утюге» свое тридцатилетие и ушла с молоденьким азербайджанцем, который потащил ее в темный угол.
Там и нашли утром ее тело в позе, недвусмысленно свидетельствующей о ее последних утехах.
Разыскать азербайджанца было уже делом техники. А когда его задержали, выяснилось, что документов у него никаких нет, а паспорт он получал в Баку. Поскольку прокурор грозил отказать в аресте, если через три дня не будет установлена его личность, я упала .на колени перед уголовно-розыскным начальством и договорилась о командировании кого-нибудь из оперов в Баку для сбора документов на задержанного. Ко мне за заданием прислали симпатичного опера Влада Владимирова, глаза его сияли преданностью делу, прокуратуре и мне лично. Я объяснила ему серьезность ситуации, он долго кивал головой, забрал задание и клятвенно пообещал быть с нужными документами ровно через три дня.