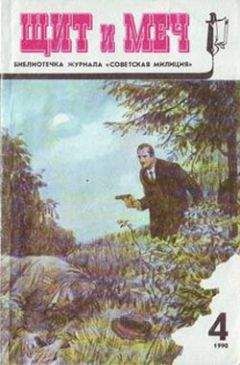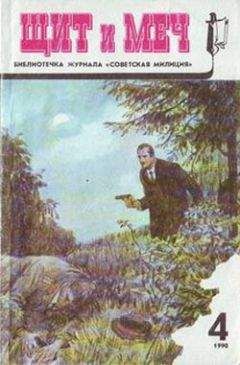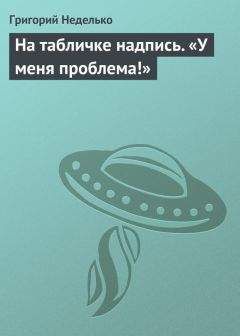– А ты, оказывается, трус…
Я уехал на работу на час раньше – позвонила мать Рыльцева. Водитель подогнал «Волгу» прямо к курятнику, возле которого Клара Михайловна кормила огромных пестрых петухов.
– Цыпа-цыпа… А, это вы, Гришенька? Горе-то какое. Владика-то моего…
Клара Михайловна – полная женщина с гладким лицом, аккуратным пробором в бесцветных густых волосах. Кормить петухов ей вовсе не идет…
Я молча смотрю на самого большого петуха – красив, каналья, восхитителен.
– …просил передать Владичка, что паркет в вашем доме тот же, что украден на вашем производстве. Очень просил это передать. Именно это… – Клара Михайловна поворачивается ко мне спиной. Спина – рыхлая, словно ватная, с мягким горбом.
– Больше ничего не просил… передать?
– Ничего. – Клара Михайловна даже не обернулась.
Жена кладет мне руки на плечи.
– Успокойся.
– Вот он, твой Рыльцев! Друг юности, – я сбрасываю ее руки с плеч, – он рассчитал верно: коль ворованный паркет и у меня в доме, стало быть, я – соучастник. Ты понимаешь? Он на одну доску поставил себя и меня. И всем плевать, что я был не в курсе дела, что милейший Севастьяныч не только в моем доме паркет ладил. Это крах, дура-р-ра! Это обесценивает все… И плевать всем – знал я или не знал, откуда паркет!
– Успокойся… Да и Владик понимает, что пока ты в силе от тебя пользы куда больше, чем…
– Ты с ума сошла, сошла с ума!
– …чем, если бы ты был под следствием. Твои связи – вот залог, гарантия. Он просто намекнул, что может случиться, если ты откажешь ему в помощи. Это, конечно, подло. Но в его положении – единственная возможность.
– Ты словно детектив сочиняешь, а здесь жизнь. Реальная. Наша. Моя. Сколько раз я говорил тебе! Сколько раз… – Я с ненавистью смотрю на то, как жена вытирает пятнышко масла на тыльной стороне ладони пестрой тряпкой и, неожиданно выхватив эту тряпку, швыряю ее на пол:
– Мне как честному человеку остается лишь одно – пойти в прокуратуру, в милицию, рассказать все, как было. И точка. Ну, выгонят с работы… Но помогать этому подонку?!
– Честному? А на чьей это нечестности твоя честность процветала? Всю жизнь ты гордился своим делом. Своим невзяточничеством. Своей, наконец, моралью. Ты говорил мне: «Будь проклят дефицит!» А я из крох, из копеечных подвигов экономии создавала – именно создавала, как конструктор, как архитектор, испытывающий постоянный недостаток средств, – дом, одежду, обед. Ты был выше этого со своей большой зарплатой, со своим «кодексом чести». Но итальянские батники и канадские сапоги носил с удовольствием. Курил привезенные Рыльцевым из Москвы «Яву» и «Столичные»… Индюк ты, мой милый, чистоплюй и ханжа.
– Как ты смачно, оказывается, ругаться можешь…
– В башне из слоновой кости нынче не проживешь. «Что скажут мои подчиненные?» Они уже говорят, мол, хитер наш, ох хитер: так крутит-вертит, что не подкопаешься.
– Не смей. Я отдал работе все лучшее и отдаю сейчас – ты-то знаешь. Не смей. И это ты подняла планку моих потребностей. Я даже не ощутил этого. Да и не потребности вовсе, а…
– Нет, милый, не проживешь в башне, не сможешь… И не режь котлету вилкой!
…Да, все эти огненные лавы, жаркий фонтан раскаленной магмы – одним словом, всё это проистекает на фоне отбивных, кружки пива и игры камерного оркестра по телевизору-транзистору, стоящему над холодильником. Экран у него маленький. Антенна лезет мне в глаз, когда я, воткнув в очередной раз вилку а отбивную, вскакиваю и кричу жене:
– Не смей!
В который уже раз, пытаясь форсировать эту лужу, я проваливаюсь по щиколотку, И в гулком парадном с исписанными стенами долго стучу подошвами по ступенькам. От этого в парадном такое мощное эхо, словно кто-то колотит в тамтам.
– Это ты? – мой брат Петр перегнулся через перила на площадке четвертого этажа; косой, кинжаловидный пучок света из приотворенной двери делит его лицо на две части – точнее, отсекает одну…
– Тише… Мог бы и тише, – ворчит Петр у меня за спиной. – Осторожно, тут коляска…
Где-то за невидимой дверью как-то не по-детски горько заплакал ребенок.
– И так вот уже полгода, – Петр вводит меня в свою комнату, достопримечательностью которой является ее пустота: лишь столик у окна, узкая железная койка, табуретка. По стенам вешалки с пальто, плащом и костюмами.
На какое-то мгновение я утратил способность слышать и понимать – один лишь зрительный и монотонный звуковой фон. Чьи-то шаги за стенкой, шорох газеты, звяканье посуды.
– Вторую в темп? – Петр кивает головой на стаканы.
– Давай, – лениво соглашаюсь я, сознавая вдруг, что сидим мы уже минут двадцать за его столиком, на котором скудная холостяцкая закуска соседствует с моим шикарным кейсом.
– Ты, значит, пришел ко мне за советом? Ты – самый мой пре успевающий родственник?
– Брось. Все гораздо серьезнее.
– Да уж куда серьезнее… У тебя есть авторучка? Я говорю, есть чем писать? Спасибо. Давай займемся арифметикой… Сколько, на пример, ты дал сверху за стенку?
– Что-о-о?
– За стенку, которую мы монтировали у тебя в большой комнате, ну, соображаешь?
– А… Через Рыльцева. Сто. Ну и коньяк ему…
– Сколько звездочек?
– Да при чем тут звездочки, при чем? У меня все по швам трещит!..
– Ладно, накинем еще четвертной. Так?
Петр что-то плюсует, умножает, грызет карандаш. «Так, два в уме, семь пишем… За ботинки десятка «сверху». Злосчастный твой паркет – он сколько? Ага! Слушай, а действительно любопытно!.. Кстати, любопытно и другое: твой плащ, кейс, галстук, этот вот ликер, конфеты – неужели всё это финского производства? У меня такое ощущение, что мы живем в малюсенькой России, а вокруг огромная Финляндия… Это я между делом, – он подводит наконец под своими вычислениями жирную черту, – Всё!
– Что, все?
– Итого, при своем солидном заработке в триста восемьдесят и всяких премиях, и жениной зарплате (сколько? сто сорок?!), то есть при чистом семейном годовом бюджете в пять тысяч рублей, ты переплатил другу Рыльцеву и ему подобным за большой и малый дефицит две тысячи сто сорок два рубля! А, каково?
– Не может быть!
– Может. Вот тебе и совет – как поступить. Между прочим, твоя трехкомнатная квартира, прекрасная твоя квартира, государственная, заметь, квартира обошлась тебе за год всего в триста рэ. А?! А уж ты-то знаешь, какое это благо – своя квартира. Сколько мыкался в коммуналке? Знаешь!
– Знаю.
– Повторяю, тут и кроется ответ – как поступить.
– Погоди, брат, погоди… Значит, ты советуешь мне не вмешиваться в рыльцевскую историю.
– А ты уж вмешался в нее. Вляпался! Вопрос стоит иначе: как из этого выпутаться? Один путь – вытащить Рыльцева. С твоими связями это сомнительное, но на пять процентов из ста вполне реальное мероприятие. Второй – предоставить все случаю, куда кривая вывезет. Третий – сам понимаешь, требует известного мужества. И тут важно вот что – важно осознать, что ты работал на Рыльцева, в буквальном смысле слова, как раб. Твое дело, твоя работа, твой талант, в конце концов, – все шло ему на закуску. Ненависть нужна, дружок. Простое и вполне человеческое чувство.
Пятница – время к полудню. Час недельной планерки. Подбиваем «бабки», как выражается секретарь нашего партбюро Дмитрий Дмитриевич Павлов. Я прошу его остаться.
– Дим Димыч, что там с хищением паркета? – Я смотрю ему прямо в переносье, избегая столкновения с взглядом Дим Димыча.
– Да вы не волнуйтесь. Тут все ясно. Сторож обходил территорию, уследить не мог. Эти ворюги подогнали машину к торцу первого административного. Вот… – Павлов человек добрый. И эта его доброта вводит Дим Димыча в ситуацию вечного противоречия. Во-первых, он верит человеку до тех пор, пока есть малейшая возможность верить. Во-вторых, даже утратив веру в человека, он не утрачивает жалости к нему. Ему бы с детьми иметь дело, а не со взрослыми людьми. Сухонький, чистенький, невзрачный. Но глаза удивительные – ясные, чуть больные, точь-в-точь как у моего сына, когда он нездоров.
– Дело ведет следователь Пусев. Толковый парень.
– Слушай, Дим Димыч… Тут такое недоразумение… – Я вдруг пугаюсь; но ведь нужно хоть что-то сказать!
– …недоразумение такое… – Я вспоминаю, что днем раньше ко мне пришел начальник планового отдела с заявлением «по собственному желанию». – Сергиенко уходить надумал. Надо бы разобраться. Все-таки специалист редкостный, а? – Я смотрю на Дим Димыча почти умоляюще, Начинаю перекладывать бумаги. Нахожу сергиенковское заявление. Вот, – протягиваю я Дим Димычу листок бумаги.
…Жена сначала молчит. Я слышу, как она дышит в трубку.
– Ты сошел с ума! Ведь Димыч секретарь партбюро.
– Вот именно, – я стараюсь говорить спокойно.
– И ты все ему рассказал?
– Ну… не все. Но…