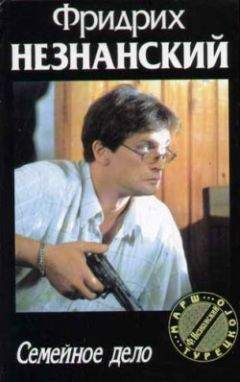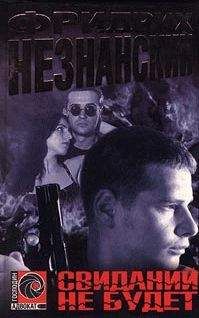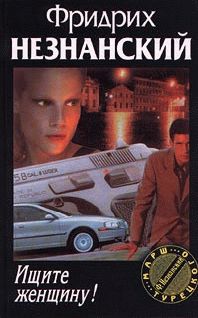Белоусов был частым гостем в квартире Скворцовых. Он и Илья Вайнштейн состояли в ранге близких друзей, но между ними существовало различие: если Илья Михайлович был другом и коллегой Николая, то Белоусов навещал дом преимущественно в отсутствие главы семьи. Как и Лариса Горшкова, он наведывался запросто — даже более запросто, чем она. Его любили дети… И, очевидно, не только дети.
Всеми вышеизложенными наблюдениями Лариса делилась с Турецким долго и подробно, постоянно перебивая себя экскурсами в особенности дизайнерского бизнеса. Опытному в разгадывании душевных состояний Турецкому было ясно, что Лариса пытается не выглядеть сплетницей, отдавая дань благопристойности, и в то же время ей очень хотелось поделиться фактами, которые она копила не один год, вряд ли рассчитывая когда-либо выложить их постороннему человеку. Желание помочь следствию тут стояло на последнем месте… как оно, впрочем, обычно и бывает. Турецкий давно не строил иллюзий на этот счет.
— Вы считаете, — подытоживая все недомолвки, взял он быка за рога, — что Нинель Петровна скрывала любовную связь с Роландом Белоусовым?
— Скрывать-то она скрывала, — Лариса сделала грустное лицо, — но не слишком умело. Знаете, эти долгие беседы… эти постоянные чаепития наедине… Словом, секрет Полишинеля. — Несмотря на усилия казаться грустной, Лариса Горшкова усмехнулась — напряженной косой усмешкой. — Секрет Полиши-Нелли.
— А Николай Викторович об этом догадывался?
— Ни в коем случае! Но даже если… Видите ли, он ей все прощал. Художники обычно — люди бессемейные, но Николай Скворцов… Все, что он делал, делал ради семьи.
Глава 16 Сумароков проявляет интерес к религии
Обстановка в доме Сумарокова по его возвращении состояла из сплошного хаоса, и, значит, все было в порядке, все — как всегда. Из комнаты молодых несся поросячий визг Леночки, сопровождаемый Вериными ритмичными покачиваниями и утешениями: «Ай-люлю, ай-люли, сейчас пройдет, сейчас пройдет!» — болезнь отступала, но из детской поликлиники каждый день приходила медсестра делать уколы. Только что исполнившая свою трудовую обязанность медработник, сухопарая и неприветливая, одетая как английская гувернантка эпохи написания «Мэри Поппинс», в прихожей возле двери напяливала синюю шляпку перед единственным клочком зеркала, брезжившим в просвете между завалами шапок, сумок, перчаток и свисавших с вешалки шарфов. С дедушкой плачущей внучки она поздоровалась бегло, надменно, вызвав у него приступ смущения — перед учителями и медперсоналом любого ранга Сумароков робел сильнее, чем перед своим начальством. Ноздри его втянули жирную гарь: запах подгоревшего ужина плыл по коридору, оседая на развешанном, как обычно, в коридоре белье. Верины колготки и комбинации, Раисина ночная рубашка, в которую можно завернуть как минимум трех Раис, его собственные семейные трусы в клетку, черные плавки Толика, Леночкины простыни, с которых, как ни полощи их в отбеливателе, не сходят желтые пятна. Сумарокову стало стыдно перед посторонним человеком за эту выставку интимностей. «Все на продажу! — пришло ему в голову название то ли книги, то ли фильма. — Все на продажу!»
Раиса поспешно выкатилась в прихожую. Не стоило обольщаться: ее спешка была вызвана не желанием встретить мужа, принять из его усталых рук портфель, помочь снять пальто — она торопилась проводить медсестру. Две сторублевые купюры перекочевали из кармана Раисиного халата в широкую медсестринскую сумку.
— Голубушка наша, Любовь Петровна, — простонала, как сизая горлица, Раиса. — Что бы мы без вас делали?
Медсестра с таким неподходящим к ее внешности именем «Любовь» благосклонно наклонила голову, увенчанную шляпкой. Прижимаясь к вешалке, чтобы пропустить медсестру, Виталий Ильич разглядел, что на правом боку шляпки красовался геометрический, состоящий из расположенных веером треугольников цветок.
— Ну чего ты встал, Виталя, — мимоходом бросила ему Раиса. — Разувайся и иди на кухню, ужин давно готов.
— Ага, — согласился Виталий Ильич. — Готов. Я это уже обоняю.
Ужин, несмотря на возмутительные запахи, оказался вполне съедобным и состоял из антрекота в сопровождении гарнира из тушеной капусты. Раисины антрекоты Сумароков обожал, а тушеную капусту, прежде чем загрести ее вилкой, основательно посолил и поперчил. Жена была отменной кулинаркой с одним, но весомым, недостатком: все готовила пресным и недосоленным. Раньше она обосновывала это больным желудком Толика, затем — беременностью Веры, теперь — младенчеством Леночки, что уж тянуло на полный абсурд, поскольку Леночка с общего стола не питалась, ей варили отдельно…
«Обо всех заботится, кроме меня, — тоскливо подумал Виталий Ильич. — Наверное, просто любит все несоленое, только почему-то не хочет сознаться».
Молодые ужинали у себя. Жена, устроясь за столом напротив Сумарокова, изредка рассеянно тыкала вилкой в стоящую перед ней тарелку, причем частенько вилка скребла о фарфор. Очевидно, она есть не хотела. Но вот поговорить была не против.
— Представляешь, Виталя, — спешила она пожаловаться мужу, которого не видела целый день, — Толик пришел сегодня с работы рано, передали они мне Леночку и закрылись у себя в комнате. А я жду, что с минуты на минуту медсестра придет! Ну подождала минут двадцать — не выходят. Я к ним стучать… Толик вышел и стал меня ругать. Будто я виновата, не даю им одним побыть! А я-то тут при чем, если они закрылись, а медсестра придет…
— С минуты на минуту, — договорил за жену Виталий Ильич. — А зачем они-то тебе понадобились — при медсестре? Сунула бы ты медсестре Леночку голой попкой вперед, а зачем молодых отвлекать?
— Как это — зачем? — В приливе благородного негодования Раиса поперхнулась откушенным кусочком антрекота. — Они — родители, они обязаны заботиться о здоровье дочери! Да чем они там могут заниматься, когда их ребенку делают укол?
— И ты еще спрашиваешь «чем»? — Виталий Ильич также имел полное право поперхнуться, но он лишь отложил вилку на край тарелки и густо покраснел. — Ты что, мать, совсем старухой стала, не знаешь, чем муж с женой в запертой комнате занимаются?
Ответом ему был полный вызова взгляд, утверждавший, что это самое, на что намекает ее неделикатный супруг, обязано стушеваться и отступить перед проблемой укола. Все точно, Раиса никогда не отличалась приверженностью к плотским удовольствиям. Ее эротическое чувство, некрепкое и легковесное, готово было исчезнуть, когда требовалось погулять с ребенком, сходить в магазин, посмотреть телевизор… То ли она уродилась такой ледышкой, то ли он оказался недостаточно сильным мужчиной и не сумел ее отогреть? Нет, в этом есть что-то невыносимое! Давит, душит… невыносимо, честное слово!
Внезапно Виталий Ильич почувствовал, что кусок больше не лезет ему в горло. Кухня показалась чересчур душной, антрекот — слишком жирным. Швырнув, не глядя, вилку на недоеденную кучку капусты, он стремительно встал из-за стола и, пронесясь кометой сквозь коридор (какие-то полупросохшие вещички спланировали за ним на пол), постучал в дверь, из-за которой слышались голоса невестки и сына вперемежку с гуканьем Леночки:
— Анатолий, выйди. Надо поговорить.
Толик вышел тотчас же. Виталий Ильич не переставал удивляться, каким образом у него мог удаться такой красивый сын, взявший самое лучшее от молодой Раисы и от дедушки с бабушкой, сумароковских родителей, которые, по его воспоминаниям, также были очень красивы. Правда, если Вера будет кормить Толика так же, как сейчас кормит мать, к возрасту Виталия Ильича он сравняется с ним фигурой… Однако сейчас сын был строен, как камыш, и смотрел на своего некрасивого, вялого отца с негодованием:
— Ну что еще такое? Вы нас сегодня с матерью прямо замучили!
— Вот об этом я и собирался с тобой поговорить, — буркнул Виталий Ильич. — Послушай, Толик, как ты это терпишь? — говорил он, чем дальше, тем сильнее взвинчивая себя. — Женатый человек — и допускаешь, чтобы дома тобой помыкали, как ребенком? И как, скажи на милость, это терпит твоя жена?
— Жена терпит, — в том же взвинченном тоне отозвался сын, — но я больше терпеть не намерен. Я сам собирался с тобой говорить и просить, чтобы ты повлиял на маму…
— А ты думаешь, легко повлиять на маму?
Раиса склонилась возле двери кухни, в самом начале коридора, подбирая с пола упавшие вещички; несмотря на деловитость, поза отражала напряженное прислушивание, словно у нее уши росли на спине. Толик, очевидно, уловил это одновременно с Виталием Ильичом и широко распахнул дверь в комнату, где обитало его маленькое семейство:
— Если хочешь поговорить, папа, заходи.
— Я и здесь могу, — заупирался Сумароков-старший, невольно отводя взгляд, упавший на бедро Веры в просвете распахнутого халатика. Вера с удовольствием нянчила девочку, не обращая внимания на застрявшего в дверях свекра.