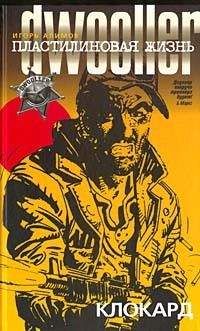– А! Это вы, господин Леклер! – елейно произнес он, приподнимаясь. – Я вас сразу и не узнал, благодетель. А я тут того… прием «толстая жаба падает в тину осеннего пруда» отрабатывал… А кто эти добрые люди, что пришли с вами?
Мы с мадам Цуцулькевич заинтересованно приблизились и Жак нас представил.
– Вставай, вставай Джон, – прогудел он, потрясая стариканом Зямой. – Принимай своего подопечного.
Господин Мозговой поднялся на ноги и выпрямился – он оказался рослым, крепким стариком с лопатообразной пушистой бородой, в которой застряли рыбья чешуя и щепки, с шишковатым, испещренным прожилками носом, густыми бровями, под которыми туда-сюда бегали неопределенного цвета глазки, и с роскошными, ниспадающими на плечи пейсами. Одет Мозговой был не в пример Зяме в приличную пиджачную пару черного цвета; из-под ворота белой рубашки выглядывал слегка сбившийся в процессе отползания к морю, но тем не менее повязанный вполне кокетливо шелковый шейный платок.
– Какие проблемы, благодетель? – отряхивая с себя песок и блестя притом камнями перстней, осторожно вопросил главный старец. – Что натворил сей неразумный отрок?
Леклер швырнул престарелого отрока Зяму к его ногам.
– А то ты не знаешь, Джон! Опять воровал табак.
Из-за бараков к нам потянулись и другие обитатели артели: разномастные личности всякого возраста и вида – от выглядывавшего в ворота мальчугана до действительно дряхлых стариков, вполне бодро передвигающихся с помощью суковатых палок – в том числе и два негра преклонных годов. Облачены старцы были в сходные с Зяминой шерстистые свободные одежды, а веснушчатый мальчик так вообще щеголял голым, загорелым от старческой жизни худеньким торсом.
Старцев оказалось и вправду много. Десятка два.
– Как же ты так, отрок? – хлопнул себя по коленям Поликарпыч, нагнувшись над смирно лежавшим на песке Зямой. – Али не знаешь, что нехорошо брать чужое? Где твоя мудрота? – косясь на Леклера, вопросил он.
Старикан Зяма, искательно огладил себя руками, но, видимо, мудроты нигде не обнаружил и виновато потупился.
– Три дня без кефира! – объявил Поликарпыч старикану и торжественно расправил пейсы.
В ответ раздался страдальческий стон наказанного: кефир Зяме был люб. Не понимаю, как можно так переживать из-за подобных вещей. Вот если бы старикана лишили пива, например!..
– Значит, так, Джон, – упер руки в боки Леклер. – Еще раз кого из твоих на плантациях увижу, всыплю солью из обреза. Все запомните! – Обернулся он к собравшимся вокруг старцам.
– Да, благодетель, да! – дружно закивали они, переглядываясь.
Господин Мозговой задышал и злобно покосился на Леклера.
– Утесняете вы сирот, господин Леклер. Куска хлебушка лишаете.
Старцы опять согласно закивали.
– Я тебя предупредил, Джон! – поднес к его носу толстый палец Леклер. – Я тебя предупредил.
Поликарпыч зашевелил было губами, но тут из дальнего барака выскочил еще один старец – лет, наверное, десяти, не больше – и принялся бить ложкой в большую консервную банку.
– Кефир! Кефир! – пронзительно орал малолетка.
Собравшиеся оживились и спешно потянулись на зов.
Джон Поликарпович горестно вздохнул, обвел нас взглядом и буркнул скороговоркой:
– Вы ведь не откушаете с нами кефиру? Нет? Ну и…
– С удовольствием! – отвечала радостно мадам Цуцулькевич, и Мозговой бросил на нее короткий неприязненный взгляд.
– Тьфу! – плюнул на песок Леклер. – Подожду вас в машине.
В просторном бараке с дырявой крышей покойно стояли длинные столы, и на них – через равные промежутки – стаканы с белой жидкостью: с тем самым, по всей вероятности, кефиром. Когда мы вошли, старцы уже чинно застыли каждый у своего стакана; пустовали лишь два места – во главе стола, где возвышалась монументальная, больше стакана раза в три, медная кружка, и рядом с веснушчатым пацаном – тут, видимо, обычно принимал целебный напиток наказанный за неловкость, проявленную при умыкании табачных листьев, старикан Зяма.
Стульев в бараке не было.
Я кефир пить не собирался: в бутылке еще оставалось глотка на три пива – тем более, что гостеприимный и от природы щедрый господин Мозговой совершенно обошел меня своим вниманием: величаво приблизившись к медной кружке, он гаркнул:
– Лизавета! Еще стакан кефиру нашей… гостье!
Потом оглядел застывших в торжественном ожидании старцев, взял кружку и, пробормотав «себе я всегда наливаю сам», скрылся за ближайшей дверью, от которой уже спешила, держа гостевой стакан в вытянутой тонкой руке, некая изможденная жизнью, даже местами иссохшая старуха в бесформенном балахоне и в глухо повязанном платке.
Улыбающаяся Цуцулькевич приняла стакан, и тут возвратился хозяин: занял свое место и высоко поднял кружку:
– Ну, будем! – провозгласил он, резко выдохнул и большими глотками принялся пить; это послужило сигналом для старцев, которые немедленно схватили свои стаканы.
– Ложка кефира убивает лошадь, – заметил я Жужу и отхлебнул пива. – Неотвратимо.
Единым духом поглотивший содержимое кружки Поликарпыч заметно раскраснелся и подобрел; тщательно облизал белые кефирные следы с губ и с гораздо большей теплотой взглянул на нас с Цуцулькевич.
– На здоровье, – оскалился он на Жужу, благожелательно наблюдая, как она маленькими глоточками допивает кефир. – Не желаете ли стать старицей?
– А можно еще стаканчик? – спросила та счастливым голосом («Кул?» – спросил я Жужу. «Клёво!» – подтвердила Цуцулькевич).
– Увы! – в ответ на ее просьбу злорадно развел руками Поликарпыч. – Нету!.. Вы не подумайте, я не жадный! – спешно пояснил он. – Просто рачительный.
Я тем временем внимательно изучал его замечательные пейсы и в голове моей зрела хорошая, перспективная мысль.
– Чего? Чего? – заметив мой взгляд, забеспокоился Поликарпыч; откушавшие кефиру старцы между тем, с надеждой оглядываясь, покидали барак. – Нечего так смотреть, благодетель, нечего. – Затараторил Мозговой. – Я бедный яурэй, все силы кладущий на этих неразумных сирот, у нас ничего и нету, крабами одними пробавляемся, живем впроголодь, курить вообще не осталось, только мудротой единой и держимся, а тут ходят и ходят всякие… – Старец приблизился, дохнул на нас с Цуцулькевич густым спиртовым духом. – А то подайте на сирот, благодетели, а? Подайте! Из ваших мозолистых рук.
– Яурэй, говоришь? – задумчиво спросил я. Поликарпыч ожесточенно закивал: яурэй, яурэй!
– А вы, часом, не жиды? – обеспокоился внезапно он и посмотрел на нас с подозрением. – Они никогда не подают. Не люблю я их.
Тут мысль вызрела окончательно.
– Мы – не они, мы – подадим, – заверил я яурэя. – Но сначала мы с вами сделаем вот что…
Группа старцев с жестяными помятыми кружками в руках, жалобно – негромко, но вдумчиво – голося «пожертвуйте угнетенному старчеству, благодетели, купите изделия народных промыслов», бойко продвигалась по щербатым плитам перрона к тумпстаунскому вокзалу, тыча в нос встречным дурацкие поделки из крабьих панцирей. В тылу у старцев вышагивали два яурэя, а проще говоря, откровенных хасида – снаряженных по всем хасидским правилам: в черных круглых шляпах с широкими полями, в длинных черных, перетянутых шелковыми поясами приталенных сюртуках, из-под которых виднелись беленькие цыцысы от таласов, в черных же брюках и ботинках. Не яурэи, а загляденье. Один – седой, с белой бородищей, другой моложе, с бородой черной, но тоже длинной. Первый – Джон Поликарпович Мозговой, хозяин сокровенной мудроты, второй – Майк Хаммер, он же Сэмивэл Дэдлиб, совсем недавно считавший, что он погиб в результате прямого попадания из пушки среднего калибра, а ныне упорно не желавший возвращаться в управление полиции, так ничего толком и не выяснив.
– Значит, еще нам муки… кукурузной, мешка три, – остро зыркая по сторонам, бубнил вполголоса Мозговой, загибая пальцы. – Маслица растительного ящичек, штанов… новых… двадцать пар, вот тут у меня размерчики, десять сумок холщовых, сетей крупноячеистых пять штук…
– А сети зачем? – удивился я.
– Ну как же, благодетель! – высоко задрал брови Поликарпыч. – А крабов ловить! Крабиков. Старые-то, совсем поизносились, а краб пошел нынче ушлый, так и норовит в дырку утечь. Старцы-то немощные, не поспевают за ним, аспидом проклятущим. Ты что, благодетель! Сети в нашей артели – первейшее дело. Мы без сетей никуда.
– Ладно, сети. Три шутки, – обреченно согласился я, не будучи в состоянии понять, как можно ловить крабов сетями. Может, они тут прут стадами?
– Нет уж, благодетель, пять. Как мы тремя-то обойдемся?
– Ладно, пять.
– Вот и славненько! Еще бумаги папиросной нам надобно несколько коробочек…
– А бумага-то на что?
– Ну ты я вижу благодетель не сообразительный! – хитро прищурился Поликарпыч. – А во что мы табачок-то будем заворачивать? В газетку? Так ведь вредная она для организма-то, газетка. В ней свинец всякий, другие элементы нехорошие.