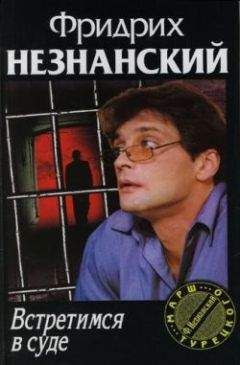— Сейчас, сейчас, — бурчал борец, которого сумерки преображали в совершеннейшего уж медведя, — еще чуток потерпите. Почти пришли…
— Куда пришли?
— А вот сейчас увидите.
И Гордеев увидел. Увидел ослепительно вспыхнувшее, неоновой белизны, зарево, которое выхватило из полутьмы троих амбалов. «А где же тот, который нас привел?» — не успел подумать Юрий Петрович, когда сообразил, что борец остался сзади. И что именно он-то и нанес Гордееву удар по голове, осветивший в его глазах все вокруг. Недаром ведь в народе говорится: «искры из глаз посыпались»…
Искры из глаз больше не сыпались. Но это мало радовало, потому что в следующий миг Гордеева и Васильева повалили на землю и начали рьяно молотить руками, ногами и, кажется, подсобными предметами, наподобие вошедших в бандитский обиход благодаря голливудской продукции бейсбольных бит. Избиение сопровождалось негромким, но внушительным ревом на четыре голоса:
— Катитесь в свою Москву. Не расследуйте тут ничего. Хуже будет…
И еще было сказано много всякого, чего не выдержал бы лист бумаги, даже при нынешних тенденциях введения мата в большую литературу.
Куда делись нападавшие по завершении своей костоломной работы, Гордеев не уследил: потерял сознание. Очнулся с дикой головной болью и в течение некоторого времени лежал, не смея пошевелиться, чтобы не усилить боль движением. Рядом копошилась огромная черепаха… Не сразу Гордеев догадался, что это не черепаха, а Роберт, который с какой-то стати ползает на четвереньках, описывая круги.
— Роберт, — в ужасе простонал Юрий Петрович, — что с тобой?
Роберт остановился, не довершив полукружия.
— Линза, — скупо сообщил он.
— Какая линза? — Гордеев заподозрил, что голова Роберта пострадала еще сильнее, чем его.
— Контактная. Мало того что мне, кажется, ногу сломали, вдобавок я контактную линзу потерял. Фиг ее в такой тьме найдешь…
— Я не знал, что ты плохо видишь, — виновато произнес Гордеев.
— Минус пять диоптрий, — пожаловался Роберт. — А ведь подсказывало мне шестое чувство, что не надо уходить из ресторана…
Услышав снова о шестом чувстве Роберта, Гордеев хотел выругаться или зарыдать. Обстановка одинаково располагала к тому и к другому. Скрутив нервы в узел, сказал сдержанно:
— Что сделано, то сделано, ничего не изменить. Впредь умнее будем. Давай решать, как нам действовать сейчас: звонить по мобильнику в гостиницу или своим ходом ползти туда же.
— По-моему, Юрий Петрович, проще доползти.
— Погоди-ка, я попробую встать… Только ты, пожалуйста, не вздумай этого делать: если у тебя действительно сломана нога, получишь перелом со смещением… Ага, вот! Все в порядке, стою!
Заявление, что все в порядке, следовало счесть излишне оптимистичным: Гордеев не стоял, а шатался, хватаясь за ломающиеся ветви кустарников. Он чувствовал себя в положении антипода, у которого земля располагается над перевернутыми кверху ногами, а под головой — опрокинутый небесный свод. По затылку стекала за воротник неостановимая струйка горячей липкой жидкости.
— Сейчас доберусь до гостиницы, — продолжал бодро говорить Юрий Петрович, удерживая себя от нового обморока, — поставлю всех на уши, вызову милицию, «скорую помощь»…
— Юрий Петрович, по-вашему, с нами все так плохо?
— Плохо или не плохо, Роберт, а врач нам в любом случае необходим. Пусть зафиксирует телесные повреждения. Это называется «снимать побои», никогда не слышал? Эх, молодо-зелено! Тебя, Роберт, еще учить и учить. Что бы ты делал без старшего коллеги…
Александрбург, 24 марта 2006 года, 23.20.
Вадим Мускаев
В результате вышеописанных чрезвычайных происшествий главный бухгалтер московского отделения «Уралочки» впервые в жизни ощутил, что отец был прав: княжеская кровь течет в жилах Мускаевых, удерживая их от бесчестных поступков. Что здесь шло от крови, а что от воспитания, сказать мудрено, однако Вадим Мускаев отдавал себе полный отчет в том, что ни за что на свете не поддастся на посулы своих мучителей и не оговорит Валентина Викторовича Баканина. Предательство есть предательство, даже совершенное под давлением превосходящей силы противника. А значит, предавать нельзя. Ведь после этого поступка Вадим не сможет смотреть в глаза даже своему отражению в зеркале.
Честно говоря, скромный бухгалтер сам от себя никогда такого мужества не ожидал. Но он не называл это мужеством. Он просто как-то внезапно обнаружил, что в ответ на побои он только злее и упрямее желает расквитаться с обидчиками. Что сделают при этом с ним, ему безразлично. Его рыхлое, незакаленное тело, которым жена Надя в последнее время была недовольна (и с различными обидными шуточками тыкала его в перетянутый резинкой трусов живот), внезапно обнаружило прочность… и пускай это была прочность не железа, а резины, он был уверен, что не умрет. Он перенесет все и увидит победу справедливости.
— Я хочу написать жалобу, — повторял он следователю Алехину. — Я хочу написать жалобу на ваши методы добывания… выбивания признаний. Я невиновен. Я невиновен.
Его желание было удовлетворено: под руководством своего адвоката, тощего запуганного человечка, Вадим Мускаев написал жалобу, сперва, как ни покажется это смешным, на имя следователя Алехина. Адвокат заверил его, что как начальный этап это необходимо. Как и следовало ожидать, жалоба Алехину на Алехина не возымела никаких последствий: следователь Алехин раздваиваться не умел и отличался монолитной, неуязвимой, можно сказать, цельностью.
Далее со стороны Вадима последовала жалоба на имя начальника следственного управления Макаровой.
Она имела так же мало результатов, как и первая бумага.
На имя областного прокурора Нефедова…
Молчок.
Одна за другой жалобы исчезали в тиши прокурорских кабинетов. Создавалось впечатление, что в этих кабинетах завелось чудовище, которое питается бумагой… И не только бумагой! Оно с удовольствием пьет слезы и кровь невинно избиваемых, оно не прочь отведать мясца тех, кто не выдержал гонки за признаниями… Чудовище хочет питаться. Этим сказано все.
Вадим Мускаев чувствовал, как наползает на него бред первых дней этих невероятных событий. Не люди вокруг, а оборотни. Не живые, а мертвяки с оловянными зенками. Пропадешь, сгинешь без следа, и никто не заметит. Никто не заплачет… Плачут разве что родные и близкие, не зная, где он, что с ним. И, пожалуй, хорошо, что не знают: если бы жена знала, она бы, наверно, с ума сошла… Увидит ли он еще Надю? И Москву? А если не заглядывать так далеко, удастся ли ему хотя бы вдохнуть воздух за пределами этих стен, отделяющих его от всего мира?
Но предавать нельзя. Эта максима подтверждалась не только чувствами, но и рассудком. Нельзя признать себя виновным в преступлении, которого не совершал. За этим всегда следует суд, тюрьма и… впрочем, какое там «и», разве суда и тюрьмы недостаточно? В его профессиональном прошлом бывали эпизоды, когда фирма, обещая большую прибыль, принуждала его нечестно вести бухгалтерию. Из таких фирм он без колебания уходил, не соблазняясь деньгами. Вадим Мускаев всегда был честным человеком. И останется им.
Ну, по крайней мере, очень постарается остаться. Если у него получится. Если он вытерпит…
Со стороны следователя и начальства СИЗО терпеть Мускаеву приходилось не меньше, чем Бака-нину. В одном только ситуация отличалась: если Баканина в его камере постоянно изводили придирками, руганью, тычками и бессонницей, то Вадиму посчастливилось попасть в более здоровую, если можно так выразиться, обстановку. Причиной тому являлся маленький седенький старичок с широким, белым, точно от ожога, шрамом на месте бровей, державший камеру в ежовых рукавицах. Кем он был, этот местный теневой лидер, и в чем его обвиняли, Вадим так и не узнал. Не узнал даже полного имени: все обитатели камеры обращались к старичку кратко, хотя и уважительно: «Фомич». Ему было достаточно того, что Фомич сплотил вокруг себя десяток самых сильных заключенных и, опираясь на эту свою гвардию, поддерживал порядок. Кроме шуток, не уголовный порядок, а самый обычный, максимально приближенный к бытующим в нормальном человеческом обществе понятиям о справедливости. Фомич не допускал воровства, не допускал, чтобы сокамерники издевались друг над другом. Съестное из передач распределялось таким образом, чтобы перепало что-то и тем, кто передач не получал. Строго следил Фомич за соблюдением очередности: кому в эту ночь спать на нарах, а кому — на полу… Э, да разве обо всем расскажешь! Поначалу Мускаев, как любой человек, угодивший с воли в СИЗО, чувствовал себя раздавленным тяжестью тюремной обстановки, но, чуть-чуть обвыкнувшись и осмотревшись, сделал вывод, что могло быть и хуже. Гораздо хуже, если бы не Фомич…