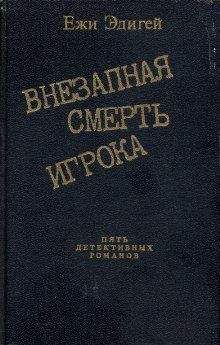Все-таки этот капитан милиции меня ненавидит, как и я его ненавидел еще несколько недель тому назад. Нынче его персона интересует меня не больше, чем далекие гренландские льды. Но он про меня не забыл. За что он так меня невзлюбил? Я ж ничего дурного не сделал. Опытный следователь, он прекрасно знает, и я это понимаю, что улики против меня очень серьезны. Суд и приговор будут лишь формальностью. Но пан капитан Лапинский решил заставить меня капитулировать и сознаться в убийстве Зарембы.
Думаю, что тут замешано его самолюбие, и больше ничего. Как можно допустить, чтобы арестованный так долго противился его капитанской воле и не соизволил порадовать его такой мелочью, как признание в убийстве?
Капитан применил новую хитрость. Вчера, когда разносили обед, произошло следующее. Двери камеры открылись, и один из заключенных, орудуя в котле половником, собирался налить порцию супа в мою миску. Вдруг за его спиной, несколькими дверями дальше, раздались крики дерущихся заключенных. Охранник, который наблюдал за раздачей и за тем, чтоб арестанты со мной не общались, отреагировал как полагается — побежал к драчунам. Тогда разливавший суп шепнул мне:
— Слушай, фрайер, через четыре дня выхожу на волю. Давай адрес и пиши записку, вечером возьму. Только старому хрычу ни слова.
Надо сказать, что «хрычом» заключенные десятого отделения прозвали одного из надзирателей. Пожилой человек, вежливый, вполне приличный. Несет службу в очередь с двумя другими.
— Нет, спасибо. Не нужно, — шепнул я в ответ.
— Не бойся, фрайер, — сказал его товарищ. — В тюряге так положено — помогать изолированным. И драку затеяли, чтоб тебе сказать насчет записки. Вечером опять устроим представление, и через четыре дня писулька будет на месте.
Еще одно пояснение: слово «фрайер» в нашей тюрьме обозначает не профессионального преступника, а интеллигента, который «влип». Это может быть растратчик, нарушитель правил движения или преступник вроде меня.
Я смекнул, что эту комедию разыграл капитан Лапинский. Он думал, что перехватит «писульку» и в ней я ненароком признаюсь в убийстве. Наивны все-таки эти милиционеры. Старого воробья на мякине не проведешь. Разумеется, писать ничего не буду. Признаваться мне все равно не в чем. Ведь я не убивал.
Интересно все же, что будет вечером.
Еду раздавали те же заключенные. Это их постоянная обязанность. Она связана с важной привилегией: их камеру закрывают только на ночь, и, кроме того, в котле всегда что-то остается.
Когда дверь открылась и заключенные втащили тяжелый котел, один так махнул половником, что обрызгал охранника и сразу бросился чистить его мундир. Охранник ругался на чем свет стоит, а заключенный так старательно отчищал пятна, что конвоир машинально повернулся спиной к открытой двери. Тогда второй протянул руку за запиской.
— Нету, — шепнул я. — Привет жене и детям.
— Ладно, — кивнул заключенный. — Как только я у них побываю, получишь в передаче голубой платок.
Охранник или участвовал в комедии, или ничего не заметил. Но факт, что через три дня котел носил уже другой. Я спросил у надзирателя, в чем дело.
— Вышел на свободу, — объяснил он. — Срок кончился. За хорошее поведение сбавили год. Имеет смысл таскать котлы.
Через несколько дней из дома пришла передача с бельем. Я ее не просил и не ждал. Правда, я дважды написал из тюрьмы своему младшему брату, но не знаю, дошли ли до него мои письма. В них я спрашивал про детей и ничего не просил. Надпись на посылке была, как и раньше, сделана рукой Баси. Сверху лежал голубой носовой платок. Капитан Лапинский, даже проиграв, ничем себя не выдал.
Неделей позже опять вызов в прокуратуру. Ясёла спрашивал о каких-то пустяках и уговаривал сознаться. Он объявил, что ввиду моего упорства ему придется срочно закончить следствие и приступить к составлению обвинительного акта. Значит, недолго мне сидеть в одиночке. Все будет кончено. Но и такая перспектива не вывела меня из апатии.
Я попросил прокурора поблагодарить от моего имени капитана Лапинского за доставленное развлечение. Ясёла или хорошо сыграл роль, или и впрямь ничего не знал, но очень заинтересовался услышанным. Я не входил в подробности, чтоб не подвести заключенного, которого взял в помощники следователь. Иначе прокурору (хотя б ради престижа) пришлось бы взяться за человека, ни сном ни духом не виноватого. Только когда он дал слово, что не применит юридических санкций, я рассказал, как Лапинский «организовал» передачу записки, рассчитывая, что в ней я признаюсь или выдам что-нибудь важное.
Прокурор убеждал меня, что это невозможно. Я притворился, что верю, так как спорить смысла не было. Только снова удостоверился, не будет ли неприятностей у раздатчика: Ясёла ведь мог аннулировать досрочное освобождение. А мне в том никакой выгоды нет. Теперь раздатчиком другой заключенный, который с радостью взялся за почетную и ответственную работу по разливке супа.
С прокурором мы расстались по-доброму. Он еще раз меня уверил, что капитан провокации не устраивал и что милиция такими методами не пользуется.
Милиция-то, конечно, не пользуется, только Лапинский это устроил по собственной инициативе. Не верю я прокурору. Офицер на меня явно обозлился и во что бы то ни стало хочет поставить на своем, добиться от меня признания. Видно, это для него вопрос чести.
Как-то камеру посетил неожиданный гость, заместитель начальника тюрьмы, он сказал, что время от времени здесь проводятся концерты самодеятельности. Он слышал, что я певец, и предлагает мне выступить перед заключенными. Добавил, что это зависит только от меня, что он ни в коей степени не принуждает. Я напомнил о строгой изоляции, которая запрещает какие бы то ни было контакты, что прокурор воспротивится, а для выступления нужна хотя б одна репетиция.
Согласие прокурора уже было. Изоляция, как он мне объяснил, не отменена, но, поскольку следствие закончено, она потеряла смысл; на репетиции же и на концерте со мной будет сопровождающий, который не допустит нарушения правил. Напрасно я возражал, объяснял, что потерял голос и больше десяти лет не пел. Он уговаривал попробовать, причем очень деликатно, не как начальник, которому я подчинен, а как друг и благожелатель. В конце концов я согласился.
Смешно сказать, столько лет я боролся с болезнью. Лечение у европейских знаменитостей съело все мои деньги. Я с трудом добился того, что стал говорить не шепотом, а нормально. Незадолго до ареста, когда понадобилось о чем-то крикнуть со сцены механику, голос у меня сорвался, и из горла «потекли звуки», похожие на скрежет железа по стеклу. А в тюрьме, когда меня привели в большой зал, где проводятся вечера для заключенных или для охраны, я стал к роялю — и дело пошло. Не было ни боли в горле, ни особого утомления.
Я исполнил несколько номеров, в их числе трудную оперную арию. Остальное — популярные песни Монюшки и Носковского[1]. Мне бурно аплодировали: видно, выступление понравилось публике, состоявшей из людей, которых свели вместе статьи уголовного кодекса. Думаю, что аплодисменты выразили отчасти почтительное отношение не столь к моему пению, сколь к 225 статье этого кодекса. Она дает заключенному статус аристократа. Даже не будь изоляции, меня все равно б не спрашивали о моем деле: все и так знают, что я «еще тот парень», «прихлопнул» любовника жены. Как в старой тюремной песне: «Ты гуляй, Марыська, на душе паскудно, как на волю выйду, ты пойдешь на Брудно» [2]. Никогда у меня не было столь благодарных слушателей!
Горло не болело и после концерта. Когда пел, я знал, что у голоса нет прежнего бархатного оттенка, но заметно большое улучшение. Но и это меня не радует. Слишком поздно. Будущее мое ясно: выступать в тюремных концертах, и неизвестно, долго ли.
Иногда, но все реже, я думаю, кто мог убить Мариана Зарембу. Только мне известно, что не я. А знаменитого актера нет в живых. Давно уже не обращаюсь к прокурорскому списку. Один из шестнадцати — убийца. Кто? На этот вопрос никому не ответить. Придет день процесса. Он займет дня три. Потом дело пойдет в архив. Когда-нибудь в хронике уголовных процессов напишут о интересном деле бывшего оперного певца Ежи Павельского. Мимоходом будет отмечено, что «обвиняемый до последней минуты своей жизни в преступлении не сознавался, упрямо твердил, что невиновен, но его голословные заверения никого не убедили».
Кто убил? И из-за чего? Мстил? Ненавидел? Может, он в прошлом причинил Зарембе какое-то зло и теперь решил отправить его на тот свет? Никого мы так не ненавидим, как тех, кому когда-то напакостили. Будь Заремба человеком в летах, я решил бы, что это счеты со времен оккупации и первых послевоенных лет. Но Мариан был молод. А в войну был вовсе ребенком.
Запланировав преступление с такой тщательностью, убийца должен был иметь какой-то повод. Я довольно хорошо знаю всех, кто, если рассуждать теоретически, мог подменить пистолет. Ни один не мог ненавидеть Зарембу так сильно, чтоб посягнуть на его жизнь.