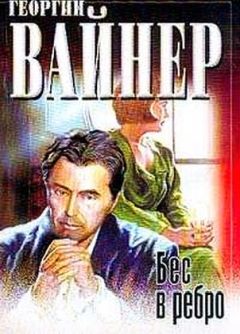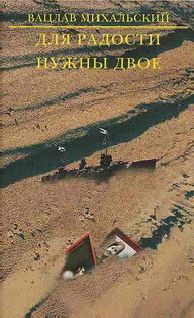— А какое впечатление они производят? — поинтересовался Старик.
— Не знаю, дед. Благополучные, нагло-сытые. Они похожи на людей, для которых жизнь — огромная толстомясая корова с необъятным выменем, надо только присосаться к нему ловчее! И упаси тебя бог попробовать оттянуть их от сосцов, полных млека и меда…
— Да, наверное, это рискованная задача, — покачал дед головой. — Вот о таких гладких злыднях я прочел недавно стихотворение. Там была жуткая строка: «Придет умытая кровью злоба и с криком кинется на людей». Я тогда еще подумал: должны же быть какие-то силы в обществе, чтобы надеть на них намордник?
— Наверное, должны быть. Я даже уверена, что они есть, — легко согласилась я. — Но меня удивляет, почему это должна делать я?
— Мы добровольно берем на себя свои обязательства, — сентенциозно заметил Старик.
— По-моему, добровольно-обязательно, — заметила я. — Почему-то, когда мы еще были совсем молодыми и бедными, Витечка всегда покупал билеты в театр со штампом «места неудобные». Мне кажется, что еще с тех пор я навсегда застолбила себе жизнь на неудобных…
— Ра, девочка моя, — покачал головой Старик. — В ложе или в партере слушать оперу удобнее, но я точно знаю, что никогда вы не получали такого удовольствия, как сидя на неудобных местах галерки. В этом есть тоже своя справедливость и своя радость.
— Ну вряд ли опера покажется хуже во втором ряду партера. Только выбирать нам не приходится. Места неудобные — и точка. Жизнь уже сложилась…
Старик неожиданно засмеялся, сипло сказал:
— Нет, это ты рано считаешь свою жизнь окончательно сложившейся. Вот я, например, решил начать жить сначала.
— Это каким образом?
— Очень просто: я прочитал обнадеживающую статью в журнале. — Он вздохнул и пояснил мне: — Я ведь все жизненные впечатления получаю теперь из почтового ящика…
— Ну и что было в этой статье?..
— Какой-то геронтолог объяснял, что человеку отмерено жить сто лет. Но в зависимости от характера, образа жизни, обстоятельств быта, от радостей и невзгод к этому сроку годы или прибавляются, или вычитаются от этого века. Куришь — минус восемь лет. Бегаешь трусцой — плюс шесть. Я посчитал все составляющие: мой неподвижный образ жизни, перенесенные жизненные тяготы, болезни, одиночество и прочее, и результат получился неожиданный — оказывается, лет двенадцать назад я уже умер. Поэтому я и решил начать все сначала…
— У меня такого выбора покамест нет…
— Тебе и не надо. У тебя впереди большая, интересная жизнь. Кстати, ты не знаешь, работает ли в прокуратуре Кравченко?
— Какой Кравченко? — не поняла я.
— Поинтересуйся, узнай, есть такой прокурор — Кравченко? Последний раз я с ним виделся давно, лет десять назад.
— А зачем тебе Кравченко?
— Да хотел узнать, как поживает, что делает…
— А что у тебя с ним общего?
— Дело в том, что я ему ампутировал ногу…
— Ты? — удивилась я. — Ты же стоматолог?
— Не было выбора, он бы иначе умер… Больше сорока лет назад… в партизанах. Он подорвался на мине. Одна нога была сильно изранена, а другая — размозжена до колена… Самолетов из-за линии фронта мы принять не могли, и в тыл не отправишь, немцы нас почти совсем задушили. Я делал ампутацию перочинным ножом и обычной пилой-ножовкой.
— Без наркоза? — закрыла я от ужаса глаза.
Старик грустно закивал головой:
— Я шил культю швейной иголкой, заправленной ниткой из трофейного парашюта. Я сам вспоминаю об этом со страхом — рану залеплял яичным белком, смешанным с золой и растертой дубовой корой. Перевязывал лоскутами рубахи, смоченными в льняном масле… И все-таки выходил я его.
— А что потом было?
— Потом? Потом он стал крупным начальником, кажется, прокурором. Я встретил его на тридцатилетии Победы. Он меня называл своим спасителем. Не знаю, может быть, это по случаю праздника?..
— А зачем он тебе?
— Да вроде бы ни за чем. Поговорить хотел…
— Хорошо, я спрошу, — пообещала я. — Я такой фамилии не слышала, но я узнаю, работает ли этот Кравченко. А может, он на пенсии уже?
— Вряд ли. Крепкий мужик. Когда я оперировал его, Кравченко было от силы лет восемнадцать. Тогда люди формировались раньше…
Старик встал из своего кресла и направился за мной на кухню. Я заметила, как он аккуратно одет. Погладила его по лацкану пиджака и сказала:
— Дед, как я довольна, что ты такой красавец.
Он усмехнулся:
— Я стараюсь держаться прилично, — покачал своей седой красивой башкой усталого грифа и добавил: — Ненавижу старческое слабоумное бесстыдство…
На кухне было чисто, аккуратно вымыта посуда и расставлена по своим местам. Не знаю, как умудрялся дед поддерживать такой порядок, ведь ему даже ходить было трудно.
Я спросила его:
— У тебя телефон Витечки есть?
Он поднял на меня косматые белые брови:
— Да. А зачем он тебе? Ты хочешь мириться?
— Нет, — помотала я головой. — Я не хочу с ним мириться. Мне нужно, чтобы он сходил к Сережке в школу.
— Что-нибудь случилось?
— Нет, Сережка надерзил учительнице, и, по-моему, он прав. Я не хочу, чтобы в школе знали о том, что ушел отец, и не хочу, чтобы Сережка чувствовал себя сиротой. Я хочу позвонить Витечке…
Дед пожал плечами, оторвал от календаря листочек и написал на нем телефон.
Я сняла трубку аппарата и почувствовала, что у меня останавливается сердце, но усилием воли оттолкнула от себя тоскливую немоту бессилия и стискивающий горло страх, быстро набрала шесть цифр номера и услышала женский голос:
— Слушаю.
— Мне нужен Виктор Герасимович, — сказала я, будто битое стекло глотала, и голос мой звенел от злости и унижения.
— А кто его спрашивает?
Вот еще одна вахтерша, проверяющая мои права, всезнающая путеводительница через пустыню кризиса — мудрая Гейл Шиихи.
— Скажите ему, что спрашивает Ирина Полтева.
На том конце, как чернильная клякса, растеклось молчание, тишина, какой-то шорох, шепот, наверное, она знаками объясняла Витечке, кто вторгся в их парадиз, переглядывались взволнованно, и Витечка гримасами давал ей указания. Потом ее голос, мягкий и вкрадчивый, неузнаваемый по сравнению с той канцелярией, что отвечала мне вначале, сказал:
— Виктора Герасимовича сейчас нет дома. Он, оказывается, ушел… На вешалке висит его пальто, и я не поняла, что он ушел в куртке…
Я тяжело дышала, я боялась только, что голос сорвется, и я заплачу, закричу, обругаю ее. Все-таки справилась. Нельзя вести себя, как Ольга Чагина. Да и передо мной-то Гейл Шиихи ничем не провинилась.
— Ну что ж, очень плохо, что не удалось его застать. Но я по крайней мере счастлива, что у него два пальто…
И бросила трубку. Дед подошел ко мне, положил руки на плечи, печально смотрел на меня.
— Дед, не грусти, я справлюсь. Я только с ужасом думаю об унижении на суде, о мучениях всей этой разводной процедуры. Детям что скажу, тоже не представляю… И этого дурака все равно жалко.
— Беда в том, что он не с тобой разводится, — покачал дед головой. — Он хочет развестись со своей несостоявшейся жизнью…
— Детям, к сожалению, этого не объяснишь. Да и мне не легче. Вот дурень несчастный! Воистину седина в бороду — бес в ребро…
Дед грустно сказал:
— Я думаю, Ра, что беса на него вовсе не эта женщина наводит. По-моему, бес, который толкает нас в ребро, — это все наши слабости, все соблазны, дурные наклонности, пустые амбиции, все злое, черное, неблагодарное, то, что делает нас ниже, гаже, хуже. Я хотел бы сказать Витечке, но он меня больше не слушает… Тот, кто позволяет бесу подталкивать себя долго в ребро, должен точно знать: однажды он сломает ему ребро и разорвет сердце…
Отпирая замок своей квартиры, я вспомнила, как Витечка, знающий все, однажды с полным основанием обозвал меня «короткоживущей элементарной частицей». Скорее всего, в это утро он читал научно-популярный журнал. Сейчас он наверняка мог бы добавить, что период моего полураспада — один день. Сегодняшний.
Еще один такой день, и завтра распад станет полным и окончательным. Меня просто не будет. Я не устала, меня не существует. И мечтала я только об одном — о тишине. О покое — таинственном острове сокровищ, недостижимом, карта которого потеряна, а сам он снесен землетрясением жизни.
А на кухне бушевал галдеж. В три голоса одновременно говорили Сережка, Маринка и Ларионов. Пока я снимала плащ, Сережка ожесточенно требовал, чтобы Ларионов объяснил ему, почему «Евгений Онегин» — роман, а «Мертвые души» — поэма. С удивлением слышала я густой голос Ларионова, произносящего слова: «…поэтика… художественное воплощение… стилевой замысел…» Интересно, почему же он в разговоре со мной не употребляет никогда этих слов? И когда я появилась на кухне, Маринка, как всегда, успела опередить всех радостным криком: