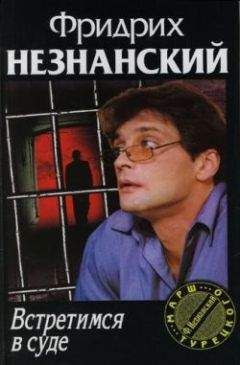— Чего глазеешь? Пиши давай!
— Что писать?
— Жалобу! Самую главную жалобу! Генеральному прокурору! — вроде бы разозлился Фомич, шевеля своим страшным шрамом, заменяющим брови. — Завтра на очной ставке дружку своему передашь. Исхитрись, а передай!
— Но как же…
— Чего «как же»? Писать разучился?
— Нет, но… Фомич, ты же сам мне говорил, что надеяться нельзя! Что надо убить надежду! А сам предлагаешь надеяться на жалобу… Еще одну жалобу… Сколько их было?
— Мало ли чего я тебе говорил, — буркнул Фомич. — Я тебе не говорил, что если без надежды, так надо лапками кверху брякнуться и ничего не делать. Ты не надейся, да делай! Готовься к худшему, и все-таки делай! Так что хватит выкобениваться. Сказал «пиши» — значит, пиши.
Вадиму захотелось обнять и расцеловать строгого главу камеры. Но, не уверенный, что его порыв будет воспринят адекватно, вместо этого он взял бумагу и ручку и застрочил…
Очная ставка — это был отдельный дивертисмент… «Просто цирк!» — можно было бы сказать, но, к сожалению, этот цирк вызывал не смех, а слезы. Баканин и Мускаев смотрели друг на друга не так, как изобличенные сообщники, а так, как не чаявшие увидеться задушевные приятели. Перекрывая вопросы, на которые они должны были, по мнению Алехина, дать «правильные» ответы, друзья пытались поговорить об обстановке в камерах, о здоровье и прочих не имеющих отношения к навязанному им делу вещах. Когда же их побоями заставили прекратить посторонние разговоры, оба замолчали окончательно и бесповоротно.
— Совсем свихнулись! — поделился со своими сообщниками после этого фарса «важняк» Алехин и замысловато выматерился.
Можно оставить на его совести эти слова, если только у таких, как Алехин, есть совесть. Но, как знать, вдруг он был недалек от истины? Вдруг заключение начало уже сказываться на психике невинно обвиненных Баканина и Мускаева? Что ни говори, но терпение человеческое имеет свой предел…
Однако очная ставка имела еще и другой итог, ускользнувший от внимания следователя Алехина. Сергей Владимирович позволил себе расслабиться и не так уж дотошно следил за руками Баканина и Мускаева, обращая основное внимание на их слова. Поэтому Вадиму, против воли открывшему в себе данные не то фокусника, не то вора-карманника, удалось незаметно передать свою жалобу Баканину на очной ставке. И уже от Баканина она попала в руки адвоката Гордеева.
Юрий Петрович должен был торопиться. Искать в Александрбурге ему больше было нечего, и вместе с Робертом, который передвигался пока что на костылях, но ни в какую не хотел оставаться в негостеприимном городе, он ближайшим самолетом вылетел в Москву. Только в салоне лайнера сковывавшее Гордеева все это время напряжение чуть-чуть отпустило его. Но расслабляться было рано. Предстоял визит в Генпрокуратуру.
Александрбург, 30 марта 2006 года, 11.42.
Полковник Михеев — капитаны Савин и Боровец
— Я их, падлы, суки! — кипятился капитан Боровец. — Я их суку, падлы! Я их в падлу, сука!
Надо полагать, произносил он еще что-то, более осмысленное, но прочие слова терялись в невнятной дикции: на поверхность слышимого диапазона не вырывалось ничего, за исключением многочисленных «сук» и «падл». Напрашивалась догадка, что повреждение верхней челюсти, нанесенное костылем Роберта Васильева, рикошетом отразилось на головном мозге. После описанных выше похождений в гостиницу капитану Боровцу пришлось несколько дней усердно посещать хирурга-стоматолога (а стоматологов он с детства боялся сильней, чем любого начальства), однако потеря двух зубов и по-прежнему гротескно перекошенная физиономия красноречиво доказывали ограниченность возможностей современной хирургии. Тем не менее потоки ругани Боровца вызывались совсем не челюстно-лицевой травмой. Для капитана это было не впервые, получать по мордасам! Били его, Богдана Боровца, и как били! Еще когда он неблагополучным подростком был — и попадал в милицию Александрбурга так часто, что впоследствии пришел к мысли вступить в ее ряды… В том, что люди, в молодости катившиеся по преступной дорожке, вступают в правоохранительные органы, в общем-то, ничего криминального нет, когда они, устроив в собственной душе пересмотр ценностей, искренне раскаиваются и желают помочь очистить мир от преступлений. Но бывают и другие случаи. В результате действий сотрудников правоохранительных органов у несовершеннолетнего правонарушителя Боровца сложилась следующая схема мира: есть те, которые бьют, — это менты, и есть те, которых бьют, — это все остальные. К какой касте лучше принадлежать? Ну уж это пьяной козе понятно! Сделав такой вывод, Богдан Боровец стал милиционером и все годы работы под чутким руководством соответствующего ему начальства воплощал первоначальный принцип в жизнь. А вот на этот раз заколодило. Получил он по морде не от милицейского начальства — что было бы обидно, но не так уж неестественно, и даже не от опытного преступника, что было бы неестественно, но по крайней мере объяснимо… Ему выбил два зуба хилый очкарик — из породы тех, которых Боровец за людей не считал. Люди — это те, у кого есть сила и деньги. Либо, по крайней мере, только сила или только деньги. У Боровца была сила, и он этим гордился. И вот эта сопля зеленая очкастая, москвич недоделанный, адвокат говенный — хряп! — выбивает ему, сильному человеку в масштабах целого Александрбурга, два зуба. И чем же? Костылем! Курам на смех! Оскорбленная гордость Боровца трепетала и требовала сатисфакции.
Капитан Савин, понуро притулившийся возле неизменного напарника, переводил с матерного языка на общедоступный:
— Зря мы их из города отпустили. Надо было пришить нападение на сотрудника милиции. Не отвертелся бы. А теперь в Москве его не достать. Ну, пусть только снова в Александрбург сунется — кровью харкать будет.
На протяжении тех дней, пока его неудачливый товарищ лечился у стоматолога, Савин не слишком желал выздоровления Богдану, потому что знал: когда капитан Боровец более или менее станет способен общаться с внешним миром, полковник вызовет их обоих на ковер, чтобы устроить крепкую нахлобучку. И чутье Савина не подвело…
— Какие идиоты, — покачал головой полковник Михеев. — Господи, какие идиоты! С кем приходится работать, удавиться можно! Вы хоть когда-нибудь думаете, что делаете? Или у вас головы для того приделаны, чтобы фуражку носить?
Полковник Михеев нервной, частой пробежечкой, в которой чувствовалось что-то балетное, прогулялся туда-сюда перед подчиненными, которые испуганно притихли. В отличие от Савина и Боров-ца полковник Михеев выглядел несравненно более благообразно, можно сказать, интеллигентно. Небольшого роста, производящий впечатление хрупкости, хотя и с оттопыренным пузиком. Увеличенный залысинами покатый лоб. Оттянутые вниз, как у собаки-бассета, наружные уголки глаз создавали впечатление, что Аркадий Борисович Михеев постоянно смотрит вверх — на что-то возвышенное, высшее… Или на кого-то высшего? Уж не из-за этого ли взгляда, напоминавшего о собачьей преданности, начальство любило Михеева и активно продвигало его по службе? Начальников Михеев сменил немало: одних обаял, других подсидел — и в результате сам превратился в начальника. Начальника уголовного розыска — не жук начхал! Этот гений местных интриг неизменно держал нос по ветру, тонко улавливая изменения атмосферы.
Полковника Михеева нельзя было назвать непрофессионалом: будучи совершенно безнадежен в плане рабочих качеств, он вряд ли добрался бы до этого поста, невзирая на все интриги, преданность и собачьи глазки. Но когда приходилось выбирать между интересами простых граждан, чей покой он, по идее, обязан был охранять, и собственными интересами, выбор неизменно делался в пользу последних. Аналогичный выбор делал Аркадий Борисович, когда дилемма заключалась в противоречиях между интересами простых граждан и крупного начальства милиции и прокуратуры, с которыми следовало жить в мире. Полковник Михеев стремился со всеми жить в мире! Под «всеми», естественно, надлежало подразумевать тех, которые могли что-нибудь дать Михееву, или тех, которые обладали властью сделать Михееву какую-нибудь неприятность. Всех остальных следовало принимать во внимание исключительно как материал для новых хитроумных комбинаций.
Пока что практически все комбинации сходили с рук благополучно, даря начальнику уголовного розыска новые жизненные преимущества — как материального, так и морального плана. Полковник Михеев имел право себя поздравить. Но он крепко опасался таких случаев, которые содержали в себе, как сочный персик, — плотную неразгрызаемую косточку, массу последствий. Аркадий Борисович боялся разоблачения. В сущности, своей балетной семенящей пробежечкой он ходил по минному полю. Само по себе нарушение, на котором его заловят, могло не быть таким уж серьезным: хуже было то, что оно способно привлечь к нему внимание. Уж кому-кому, как не самому Михееву, знать: если за него примутся всерьез — такого накопают!