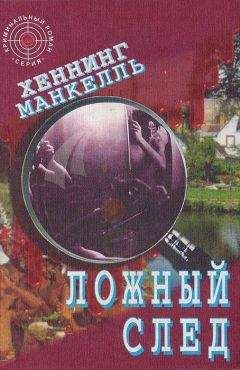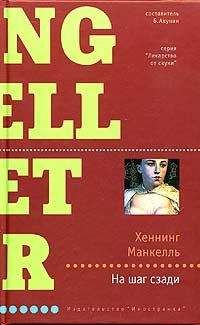Он снова лег на диван, чувствуя огромную усталость, но одновременно и облегчение, и мгновенно заснул. Около восьми его разбудили донесшиеся с улицы сигналы автомобиля. Снились ему лошади. Целый табун, который промчался по песчаным дюнам Моссбю и ринулся прямо в воду. Он попробовал истолковать сон, но не сумел. Так бывало почти всегда, потому что он толком не знал, как подступиться. Набрал ванну, выпил кофе и около девяти позвонил Иттербергу. Тот сидел на совещании. Валландер сумел оставить сообщение и в ответ получил эсэмэску: Иттерберг может встретиться с ним в пол-одиннадцатого у Ратуши, с той стороны, что выходит к воде. Там Валландер и стоял, когда Иттерберг подкатил на велосипеде. Они расположились в кафе, взяв себе по чашке кофе.
— Что вы здесь делаете? — спросил Иттерберг. — Я думал, вы предпочитаете маленькие города и сельские поселки.
— Так и есть. Но иногда обстоятельства вынуждают.
Валландер рассказал про Сигне. Иттерберг слушал внимательно, не перебивая. Под конец Валландер сообщил о найденном ночью фотоальбоме. Он принес его с собой в пластиковом пакете, который теперь положил на стол. Иттерберг отодвинул чашку, вытер руки и бережно перелистал альбом.
— Сколько же ей сейчас? — спросил он. — Сорок?
— Да, если я правильно понял Аткинса.
— Все снимки сделаны в раннем возрасте. На самых поздних ей два, максимум три года. Других фотографий нет.
— Вот именно, — сказал Валландер. — Если нет другого альбома. Но, по-моему, это вряд ли. Потом ее вроде как стерли.
Иттерберг скривился и бережно положил альбом в пакет. Мимо по Риддарфьердену прошел белый пассажирский катер. Валландер отодвинулся на стуле в тень.
— Я думал вернуться в «Никласгорден», — сказал он. — Как бы там ни было, я — член семьи этой девочки. Но мне нужно ваше разрешение. Вы должны знать, чем я занят.
— Что, по-вашему, можно извлечь из встречи с нею?
— Не знаю. Но отец навестил ее накануне исчезновения. Позднее никто туда не приезжал.
Иттерберг задумался, прежде чем ответить:
— В самом деле примечательно, что после его исчезновения Луиза ни единого разу там не побывала. Как вы это объясняете?
— Никак. Но удивлен не меньше вашего. Может быть, съездим вместе?
— Нет, езжайте один. Я попрошу кого-нибудь позвонить им и растолковать, что вы вправе повидать ее.
Валландер отошел к краю набережной и смотрел на воду, пока Иттерберг разговаривал по телефону. Солнце стояло высоко в ясном синем небе. Разгар лета, думал он. Немного погодя подошел Иттерберг, стал рядом.
— Порядок, — сказал он. — Но я должен кое о чем вас предупредить. Женщина, с которой я беседовал, сказала, что Сигне фон Энке не говорит. Не потому, что не хочет, а потому, что не может. Не знаю, вполне ли правильно я понял. Но, похоже, она родилась без голосовых связок. В том числе.
Валландер посмотрел на него.
— В том числе?
— У нее определенно очень серьезные пороки развития. Много чего недостает. Честно говоря, я рад, что не поеду. Особенно сегодня.
— А чем нынешний день особенный?
— Прекрасная погода, — ответил Иттерберг. — Один из первых по-настоящему летних дней в этом году. Не хочу без нужды расстраиваться.
— Она говорила с акцентом? — спросил Валландер, когда они пошли прочь. — Женщина из «Никласгордена»?
— Да, с акцентом. И голос очень красивый. Сказала, что ее зовут Фатима, если я правильно понял. Вероятно, она из Ирака или из Ирана.
Валландер обещал дать знать о себе в тот же день. Машину он оставил у главного входа в Ратушу и успел уехать, опередив бдительного парковщика. Через несколько часов он снова затормозил у входа в «Никласгорден». В приемной дежурил пожилой мужчина, представившийся как Артур Челльберг. Его смена начиналась после обеда и продолжалась до полуночи.
— Давайте начнем с самого начала, — сказал Валландер. — Расскажите о заболеваниях Сигне.
— Она одна из самых тяжелых наших пациенток, — ответил Артур Челльберг. — Когда она родилась, никто не верил, что она долго проживет. Но у некоторых такая воля к жизни, какая нам, простым смертным, непостижима.
— Точнее, пожалуйста. Что с ней не так?
Артур Челльберг помолчал, словно прикидывая, хватит ли у Валландера сил услышать факты, а может, заслуживает ли он узнать правду. Валландер нетерпеливо бросил:
— Я слушаю вас. Продолжайте!
— У нее нет обеих рук. Дефект гортани не позволяет ей говорить, а кроме того, у нее врожденное повреждение мозга. Еще деформация позвоночника. Поэтому она очень ограничена в движениях.
— То есть?
— Отмечается некоторая подвижность шеи и головы. Например, она может моргать.
Валландер попытался представить себе кошмарную ситуацию: что, если бы Клару постигла такая беспредельная катастрофа? Что, если бы Линда родила ребенка с тяжелейшими функциональными пороками? Как бы он тогда повел себя? Способен ли он вжиться в обстоятельства, в каких оказались Хокан и Луиза? Конечно же он не мог четко ответить ни на один из этих вопросов.
— Она давно здесь? — спросил он.
— Первые годы жизни она провела в приюте для детей с тяжелыми функциональными нарушениями. Он располагался на Лидингё, но в тысяча девятьсот семьдесят втором был закрыт.
Валландер жестом остановил Челльберга.
— Давайте точнее. Будем исходить из того, что, кроме имени, мне о девочке не известно ничего.
— Тогда, пожалуй, начнем с того, что не станем называть ее девочкой, — сказал Челльберг. — Ей исполняется сорок один. Отгадайте когда!
— Откуда мне знать?
— Сегодня. В обычных обстоятельствах ее отец приехал бы сюда и провел с ней всю вторую половину дня. Теперь не приедет никто.
Челльберга, судя по всему, возмущало, что Сигне фон Энке придется выстрадать свой день рождения без посещений. Валландер понимал его.
Один вопрос был, разумеется, важнее всех прочих. Но он решил повременить с ним, лучше пусть все будет по порядку. Достал из кармана свернутый затрепанный блокнот.
— Итак, она родилась восьмого июня тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года?
— Совершенно верно.
— Она когда-нибудь бывала дома у родителей?
— Согласно записям, с которыми я ознакомился, прямо из больницы ее перевезли на Лидингё, в «Нюхагахеммет». Когда приют решили расширить, соседи испугались, что их недвижимость упадет в цене. Что уж они предприняли, чтобы остановить эти планы, я не знаю. Но приют не только не был расширен, но, наоборот, закрыт.
— Куда ее перевели?
— Она угодила в этакую карусель. В том числе год прожила на Готланде, под Хемсе. А двадцать девять лет назад попала сюда. И здесь осталась.
Валландер записывал. Временами в мозгу с мрачным упорством мелькал образ Клары без рук.
— Расскажите о ее состоянии, — попросил Валландер. — Отчасти вы это уже сделали. Сейчас я имею в виду ее сознание. Что она понимает? Что чувствует?
— Мы не знаем. Она выражает только основополагающие реакции, причем языком тела и определенной мимикой, которую человеку непривычному истолковать трудно. Для нас она почти младенец, но с долгим жизненным опытом.
— Можно представить себе, что она думает?
— Нет. Собственно, нет никаких свидетельств, что она сознает масштаб своих страданий. Она никогда не выказывала ни боли, ни отчаяния. И хорошо, если так.
Валландер кивнул. Пожалуй, он понял. Пора задать самый важный вопрос:
— Отец навещал ее. Как часто?
— Минимум раз в месяц, иногда чаще. И визиты не были краткими. Он оставался с нею не меньше нескольких часов.
— Что он делал? Ведь разговаривать они не могли.
— Она не может говорить. Он сидел подле нее и рассказывал. Очень трогательно. Рассказывал обо всем, что происходило, о буднях, о жизни в малом мире и в большом. Говорил с ней как с взрослым человеком, без устали.
— А что было, когда он уходил в море? Ведь он много лет командовал подводными лодками и другими боевыми кораблями.
— Он всегда предупреждал, что будет в отлучке. Трогательно было слышать, как он объяснял ей это.
— А кто навещал Сигне в таких случаях? Ее мать?
Челльберг ответил не задумываясь, четко и холодно:
— Она никогда не приезжала. Я работаю в «Никласгордене» с девяносто четвертого. Она ни разу не навестила дочь. Сигне навещал только отец.
— Значит, Луиза никогда не приезжала повидать дочь?
— Никогда.
— Наверное, это странно?
Челльберг пожал плечами.
— Не обязательно. Для некоторых невыносимо видеть страдающих людей.
Валландер спрятал блокнот. Сумею ли я разобраться в записях? — мелькнуло в голове.
— Я бы хотел повидать ее, — сказал он. — Если, конечно, она не разволнуется.
— Забыл сказать, она и видит очень плохо. Люди для нее — размытые фигуры на сером фоне. По крайней мере, так полагают врачи.