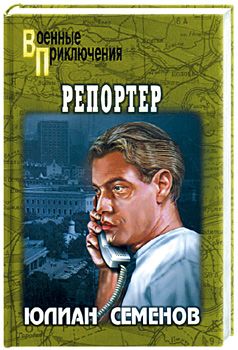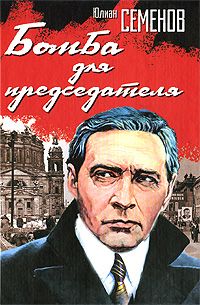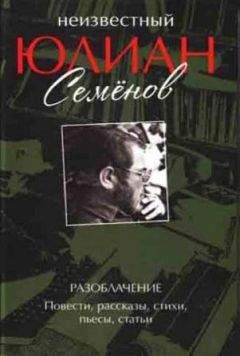— Каждая операция такого рода, — сказала Клава, — оставляет на моем лице три новые морщинки. Я подсчитываю.
— У тебя характер веселый, — откликнулся Вали-заде. — Смеешься много, оттого и морщинки… Была бы помоложе на десять лет — женился б.
— С таким жуиром, как вы, я бы очень быстро исплакалась, — сказала Клава. — По-моему, Люда с седьмого этажа потеряла из-за вас сон.
— Она потеряла сон из-за «Волги», — усмехнулся Гринберг. — Вали, объясни, отчего у вас, мусульман, такая страсть именно к «Волгам»?! Мы, евреи, тяготеем к маленьким машинам, предмет мечтаний — «Жигули»…
— Вы пуганые, — ответил Вали-заде. — А мы на подъеме, у нас аятолла Хомейни, зеленое знамя Корана одолеет красное знамя дерзновенного большевизма…
Чай у меня получился отменный, как всегда. Конечно, я, как и каждый мужчина, подвержен хвастовству, но в данном случае я не грешу, истинная правда, когда выйду на пенсию и если к тому времени не задушат индивидуальный труд, открою домашнее кафе. Ириша станет делать вареники, полтавская хохлушка, чудо что за вареники, я, наверное, и верен ей потому, что она готовит так, как никто другой в мире… Мне вдруг стало стыдно этой мысли — пусть даже горделиво-шуточной, — но ведь мысль так же невозможно вычеркнуть из бытия, как и слово. Пословица про то, что написанное пером нельзя вырубить топором, вполне распространяется и на мысль, пожалуй, еще в большей даже мере…
— Между прочим, — возразил я Гринбергу (хороший врач и парень приличный, но дикий зануда), — ты забыл ту притчу, которую я единожды рассказывал…
— Какую? — спросил он. — Я заношу все ваши притчи на скрижали.
— Про баню и раввина…
— Вы такую не рассказывали, — ответил он. — Про раввина я бы запомнил непременно. Я весь внимание, босс…
— Так вот, евреи решили в своей деревне построить баню…
— Когда это евреи жили в деревне? — Клавочка рассмеялась.
Вали-заде вздохнул:
— Последние десятилетия наша история стала умалчивать, что до революции евреи в России не имели права жить в городах и обитали в черте оседлости.
— Ой, правда?! — Клава искренне удивилась. — Вот бедненькие! Ну, так что про баню?
— А про баню вот что, — продолжал я. — Одни евреи отчего-то считали, что пол не надо стругать, а другие требовали класть тщательно обструганные доски. Раввин выслушал тех и других: «Евреи, не надо ссориться: каждый из вас прав по-своему. Давайте доски обстругаем, но класть их будем необструганной стороной вверх…» Вы спросите, к чему это я? К тому, что прав я: езжу на «Москвиче»…
— Ну и ну! — рассмеялся Гринберг. — Он ездит на «Москвиче»! Он ездит на «симке»! Ваш новый «Москвич» целиком срисован с французской модели, стыд и срам!
Через два часа Штык разлепил бескровные губы и посмотрел на меня с трезвой, пугающей задумчивостью, — словно бы не был только что под наркозом.
— Где вы? — спросил я его тихонько, чтобы понять — понимает он происходящее или нет.
Штык ответил:
— В… аду…
А что, верно. Ну, может, все же чистилище? Ад у меня ассоциируется с другими учреждениями.
— А как вас зовут?
— Ш… Ш… Штык, — ответил он, пришлепывая пересохшими губами. — Пусть сюда срочно п… придет Варравин… По… по… пока я не у… у… умер…
— Если ночью не умерли, сейчас будете жить…
Закрыв глаза, он прошептал:
— Нет… У м… меня мысли с… ска… скачут… Не дер… держатся… Очень б… быстрые…
— Кто такой Варравин?
— Р… репор… тер… Он нам нужен…
— Нам? — переспросил я.
— Вам тоже, — ответил Штык и закрыл глаза. — Только не об… манывайте меня, б… будет поздно…
Оперативник из МУРа, ожидавший конца операции, отошел перекусить. Я спустился вниз, рассказал Вали-заде, Потапову, Клавочке и Гринбергу об этом странном разговоре, заметив:
— Работу мы сделали отменную, я боялся, что Штык станет недоумком… Помните, я показывал на кровоподтек? Я его больше всего боялся… Скажите на милость, получилось, а?!
Клава села к телефону, набрала «09» и попросила номера московских редакций. Ей ответили, что больше трех справок за один раз дать не могут. Почему? Отчего мы такие жестоко-неповоротливые? Кто дал право заставлять Клаву, измученную после операции, вертеть диск пять раз, постоянно натыкаясь на короткие гудки? Я взял трубку из рук Клавы:
— Милая девушка, вас тревожат из института Склифосовского… Мы врачи, звоним по неотложному делу после тяжелой операции. Зачем вы так? А вот если бы вы к нам попали, а мы бы предложили вам рассказывать, что с вами случилось, трем разным врачам с перерывом в полчаса?
— А я на красный свет улицы не перехожу и попадать к вам не собираюсь, — отрезала девица и дала отбой. Ну, гадина, а!
Вот тогда-то я и позвонил старому приятелю, полковнику Славе Костенко из угрозыска.
Главный редактор вызвал меня вечером, когда я вернулся из архива, и молча протянул письмо с прикрепленной к нему форменной бумажкой, — явно из отдела писем, только не нашего, а сверху.
Письмо было отправлено по трем высшим адресатам. Писала Глафира Анатольевна, мать Оли.
В общем-то я сразу понял, в чем дело, ознакомившись с первым абзацем. Я не ошибся: «Издевательство над беременной женой», «вправе ли человек с таким моральным обликом работать в комсомольской прессе», «как соотнести святое слово «перестройка», а она ведь и морали касается, с тем, что любовники — Е. Нарышкина и мой зять, отец ребенка, которого носит под сердцем дочь, — на страницах газеты призывают к справедливости и честности, к духовности и моральной чистоте, а на самом деле глумятся над этими святыми для каждого советского человека понятиями». Ну, и все в таком роде: как я унижал Ольгу рассказами о моих прошлых любовницах, не таясь, продолжал с ними встречаться, не ночевал дома, а потом и вовсе выгнал из квартиры несчастную женщину — такое действует убойно.
— Ну и что? — спросил я, вернув письмо главному с резолюцией на бланке: «Разобраться и сообщить».
— Тебе видней, — ответил он. — Даже будь это неподписной текст, я бы и то не решился бросить в мусорную корзину: речь идет о беременной женщине.
Раньше я называл главного, как и было принято в молодежной газете, по имени и отчеству, конечно же на «вы». Он старше меня на девять лет, шеф, член бюро и все такое прочее. Я не очень задумывался, что в такого рода отношениях заложена холопская покорность — с одной стороны и барская всепозволенность — с другой. Я осознал эту ситуацию именно сейчас, каким-то внезапным, жарким озарением.
— А ты позвони моей жене, Оле, — сказал я главному, спокойно, без малейшей демонстрации перейдя на «ты». — Пригласи ее к себе, побеседуй. Спроси, отчего у нас случился разлом? А потом послушай меня.
— Хорошо, — главный, не дрогнув лицом, кивнул. — Вполне разумное предложение, принимаю… Давайте телефон вашей жены, записываю…
Он перешел на «вы» так же мягко, никак не выказывая слом его отношения ко мне. Я продиктовал номер:
— Оля сейчас живет там.
— Давно?
— Четыре месяца.
— Вы предпринимали какие-то шаги, чтобы ее вернуть?
— Да.
— Какие именно?
— Это мое дело.
— Так или иначе, но вам придется рассказать об этом на собрании…
— Я не буду рассказывать об этом на собрании.
— Почему же? Вопрос ведь поставлен… Не считайте, что я сразу же стану на сторону вашей тещи, я отношусь к вам с уважением и ценю вас как одаренного журналиста… Но я не могу пройти мимо этого, — он кивнул на письмо, — человеческого документа… Да и коллектив меня не поймет…
Ну и формулировочка! Горазды же мы на змейство, попробуй возрази, — «на коллектив замахиваешься»?! Я на ханжество, замахиваюсь, не на коллектив.
— Значит, звонить не хотите?
— Отчего же? Я поручу это Василию Георгиевичу…
Вася Турбин, он же Василий Георгиевич — секретарь нашего партбюро, ему двадцать семь лет, хороший парень, прошел на выборах единогласно, редкий случай.
— Хотите, я приглашу его? — поинтересовался главный.
— Хочу. Он еще не читал?
— Нет. Я ждал разговора с вами…
— Очень хочу, — повторил я. — Надеюсь, этика позволит мне присутствовать при его разговоре с Глафирой Анатольевной?
— Не знаю… Посоветуемся…
Наш секретарь пожал мне руку: «Привет, старик, я тебя сегодня искал, куда запропастился?», обернулся к главному: «Что случилось?» Тот молча протянул ему письмо.
Вася прочитал стремительно, лицо его пожухло, словно цветок на солнцепеке. Он поднял на меня голубые глаза, в которых была нескрываемая растерянность, и тихо спросил:
— Это правда, Иван?
— То, что мы не живем с Ольгой, — правда. Все остальное — ложь. Мне кажется, это звено в провокации со стороны тех, кого я сейчас вытаптываю.