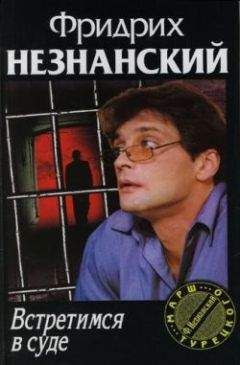Но Турецкий этого допроса не наблюдал. Переговорив с Галей Романовой и ознакомясь с предыдущими протоколами, он вплотную принялся за «киллера» Петра Самойлова, доставленного под конвоем.
Петра Самойлова приезд следователя из Москвы (так сообщили ему о Турецком) нисколько не смутил. Наоборот, он чувствовал себя народным артистом на гастролях. Он успел органично войти в свою роль, можно сказать, сроднился с ней. Неоднократно произносимые уже на предыдущих допросах словесные периоды лились из его окруженного редкой растительностью рта, если воспользоваться пушкинской цитатой, так, как если б их рождала не память рабская, но сердце:
— А чего, бля. Я русский патриот, бля. Развелось всякой черноты, некуда ступить белому человеку. А ее замочил, Милену эту, потому что она хоть и русская, а с черножопым связалась. Значит, хуже черножопой, предательница. Потому и согласился их обоих замочить, как мне Мускаев, значит, заказывал…
Однако у Турецкого не было времени выслушивать монолог русского патриота в исполнении лица, задержанного за избиение и вымогательство. Он начал задавать вопросы:
— Из какого оружия вы убили Рубена Айвазова и Милену Бойко?
— Из этого… из «Макарова», — моментально ответил Самойлов.
— Откуда вы его взяли?
— Баканин дал.
— Значит, заказывал вам Айвазова Мускаев, а пистолет вы получили от Баканина?
— Мускаев… Баканин… Короче, Мускаев получил у Баканина пистолет и дал мне.
— Куда вы его потом дели?
— Выбросил.
— Куда?
— В реку.
— Где это было?
— За… за территорией, бля, короче… Не помню.
— Когда это было?
— Двадцать пятого октября, вечером.
— В какое время?
— Стемнело… поздно было…
Темп вопросов убыстрялся.
— Как вы проникли в дом Рубена Айвазова?
— Чего, не понял?
— Отвечайте не раздумывая. Как вы попали в дом Айвазова?
— Позвонил, он и открыл.
— Что вы ему сказали?
— Сказали, что от дружка его пришли, Вальки Баканина.
— Все втроем?
— Все втроем.
— Он вам поверил?
— А то!
— Вы уверены, что вам открыл сам Айвазов?
Запинка.
— Может, это была Милена? Или Оксана?
Петр Самойлов выглядел как лошадь, которую остановили на скаку.
— Ладно, проехали, дальше. Где была собака?
— Какая, бля, собака?
— Это я вас должен спросить, какая собака. Как она выглядела?
— Чего?
— Какая порода?
— Я… это… не разбираюсь.
— Уточняю: большая или маленькая?
— Бо… большая.
— Гладкая или лохматая?
— Гладкая… а вроде и лохматая тоже… Не разбираюсь!
— Откуда вы взяли бензин для поджога дома?
— В гараже.
— Раньше бывали в доме Айвазова?
— Нет.
— Как же вы сумели так быстро найти ключи от гаража?
— Они…
— Ну?
— Айвазов мне открывать с ключами вышел… Я их и взял…
— Планировали поджог?
— Нет… Родька ключи увидел и дай, думает, подожгу…
Самойлов был уже измочален этим допросом, но Турецкий не собирался его щадить.
— Кого вы убили первым: Милену, Айвазова, девочку?
— Черного и убил. Как вошел в дом, так и убил. — На этой почве Петр Самойлов чувствовал себя увереннее.
— Что-нибудь взяли в доме?
— Драгоценности. В тяжеленной такой заразе, вроде ларца. Это Родион брал. Куда их девал, не знаю, пропил, наверно. — Живые краски возвращались на лицо Самойлова: вопрос о драгоценностях Милены Бойко был с ним неоднократно отрепетирован.
— А может, вы купили на эти деньги подарок своему шурину на свадьбу?
— Подарок? Не, подарок мы заранее прикупили.
— А что за подарок? — просто, как будто даже по-дружески поинтересовался Турецкий.
— А сервиз посудный. Посуда в хозяйстве такое дело, бьется легко.
— Хорошо на свадьбе посидели-то? — продолжал интересоваться Турецкий такими, казалось бы, не относящимися к делу вопросами. — Как, салатом вас кормили? Кормили, говорите? А-а, ну я так и предполагал. Какая ж песня без баяна, какая ж свадьба без салата? Я салат «оливье» под майонезом уважаю… Ну, а в остальном? Много выпили? Не подрались?
— Как же без драки? Было, так ведь уж ближе к утру, часа в три…
Самойлов запнулся. Лицо его начало стремительно краснеть, склоняясь к фиолетовому оттенку. Он замахал на Турецкого руками, будто желая что-то сказать, но не мог выдавить из себя ни слова.
— На свадьбе-то вы изрядно погуляли, гражданин Самойлов, — безжалостно подытожил Турецкий. — Там вас, вашего брата Егора и Родиона Машкина видело полдеревни. И сервиз ваш, извините за выражение, посудный отлично запомнили. Вы его вручали молодоженам как раз в то время, когда был убит Айвазов с семьей. В точности вечером двадцать пятого октября. Так что, извините, я обязан сделать вывод: если вы умеете раздваиваться, вас надо изучать как научный феномен. А если раздваиваться вы не умеете, значит, к убийству и поджогу никак не причастны.
— Егор… Родион… — пытался как-то спасти положение Самойлов, но так неумело, что Турецкий досадливо его перебил:
— Егор и Родион мертвы и за себя сказать не могут. Как не стыдно на покойников валить… как на покойников!
Очные ставки с Баканиным и Мускаевым, которые якобы являлись заказчиками преступления, окончательно выбили Самойлова из наезженной колеи. Столкнувшись лицом к лицу с людьми, на которых возвел поклеп, предпочитал отмалчиваться. А когда наконец заговорил по-настоящему, сказал приблизительно то, что и ожидал от него Турецкий:
— Мне Алехин предложил: тебе же так и так сидеть, возьми на себя еще и убийство. Я аж перепугался: убийство? Чтобы я кого-то убил? Ну, может, по пьяни уложил бы кого-нибудь, под горячую руку, так ведь это же не со зла. Так ведь я же этого и не сделал… Кого же это, спрашиваю, гражданин следователь, я убил? А как услышал, что, кроме мужика-армянина, еще молодую бабу и девчоночку шестилетнюю, мне так поплохело, водой из графина отливать пришлось. Вы же не смотрите, что я здоровый, я жуть до чего чувствительный… Да-а… Ну, обрабатывали они меня долго, в камеру ходили чуть не каждый день, но обработали все-таки. Посулили, что в тюрьме послабления мне сделают. И семье моей обещали деньги, долларовый счет… Виноват я перед своей семьей. Поэтому, может, и согласился. А перед женой особо виноват. Сколько она меня за свой счет кормила! Сколько блевотины за мной подтирала. Сколько водки, мною припрятанной, выливала… Кровопийца! — мгновенно переходя от лирики к истерике, взревел Самойлов. — Лизка моя, кровопийца! Если б не она, я бы, может, и не согласился…
Рыдающего, хохочущего и матерящегося Петра Самойлова отправили в камеру. Ему предстояла отсидка, но исключительно за то, что он совершил. Преступные деяния, которые он взял на себя, доказательной силы не имели.
Александрбург, 10 апреля 2006 года, 13.12.
Валентин Баканин — Владимир Поремский
Перед тем как все неожиданно и резко переменилось, Валентин помнил, стало тихо. В выжимании признаний из Баканина наступил перерыв, какая-то передышка, показавшаяся Валентину зловещей. Его больше не вызывали к следователю, его больше не лишали сна в камере, его больше не изводили побоями… Сначала Баканин воспринял это с некоторым облегчением, но вскоре задумался: что стоит за этим странным затишьем? Ничего хорошего от своих преследователей он ждать не мог. На нем, похоже, испробовали все способы… А может быть, теперь о нем просто забыли? Нуда, нуда, сидят ведь люди в СИЗО месяцами, годами… Как ни мало общался Валентин со своими сокамерниками, он сумел уловить, что пребывают они здесь уже очень долго, он среди них новичок. Сколько он уже здесь сидит: две недели, месяц, больше? В голове все путается. Даже зарубки на стенах нельзя делать — по методу Робинзона Крузо: для этого нужно постоянное место, хотя бы собственные нары с клочком стены, а их камера так забита, что с нар постоянно сгоняют, и приходится искать, где бы притулиться. Ну, допустим, для ровного счета месяц. Потом минует еще месяц, потом еще, потом полгода, а потом и год. Забудут о нем следователи, забудет адвокат, забудут сотрудники. В конце концов он сам забудет, что был когда-то Валькой Баканиным, сыном своих родителей, отцом своих дочерей, удачливым бизнесменом… Останется от него существо, тупо глядящее перед собой пустыми глазами, не имеющее ни мыслей, ни желаний, кроме самых примитивных: поесть и поспать. Больше всего Валентина испугало то, что эта перспектива его даже как-то не особенно испугала. Он уже давно привык, что еда и сон — две главные ценности в быту обитателей СИЗО. Неужели он готов превратиться в такой вот ходячий мешок внутренностей? Неужели он готов утратить то, что составляло его личность? А может быть, исподволь, по кусочку, он уже ее утрачивает?