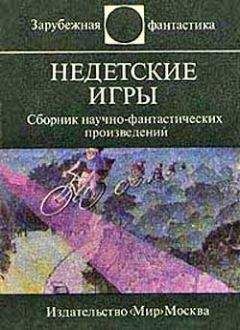Арнаутов бы предпочел, чтобы Кожурина была в кабинете одна, но ее молодая стажерка – он не помнил, как ее зовут, да и видел-то всего пару раз и с первой же встречи почувствовал неприязнь, – тоже сидела за своим столом и рассматривала фотографии в каком-то деле.
– Можно?
– Проходите, Николай Иванович.
Арнаутов закрыл за собой дверь, неловко помялся и сел на один из двух жестких стульев у стены, которые редко использовались по непосредственному назначению. Обычно на них складывали верхнюю одежду или сумки пришедшие допроситься свидетели. Видеть на этом месте Железного Дровосека было несколько странно и даже жалко. Впрочем, его внешний вид сейчас не оправдывал тяжелое прозвище. Вся энергия куда-то ушла, от былой самоуверенности осталась лишь тень.
– Я просто так, – объяснил Арнаутов.
– У Голицына был?
– Да. Дело он возбуждать не стал. Вся эта история со взяткой… – Николай Иванович махнул рукой и натянуто усмехнулся.
– Понятно, что липа, но сделано грамотно. Да еще твои дров наломали.
– Да уж…
Кожурина посмотрела на стажерку:
– Саш, сходи, пообедай.
Та намека не поняла:
– Да рано еще, Татьяна Николаевна.
– В самый раз.
Александра вздохнула, закрыла дело, положила в сумочку косметичку и телефон. Перед тем как выйти, встала перед зеркалом и поправила макияж, с каким-то болезненным любопытством косясь на неподвижно сидящего Арнаутова.
Все это время Кожурина и Арнаутов молчали. И смотрели кто куда, но только не друг на друга.
Наконец дверь за Александрой закрылась.
– Спасибо, – выдохнул Арнаутов, на которого ее присутствие давило буквально физически.
– Что понурый такой? Ведь все закончилось хорошо.
– Могло быть по-другому.
– Могло. Скажи спасибо Шилову, это он спас жену прапорщика.
Арнаутов невольно дернул щекой: напоминаниями о роли Шилова в этом деле его уже просто достали. Только Голицын трижды указывал на это во время допроса, а еще Лютый (Куда, кстати, он подевался? Говорят, с утра нет на работе, и трубка отключена), Молчун, начальник УБОПа…
– Слушай, Тань, я ведь крепкий мужик. Почему мне кажется, что жизнь сломалась?
– Потому что тебя чуть не поимела система, который ты служил, как верный пес. Потому что сына потерял. И еще потерял удобную женщину, к которой хочешь – ходишь, хочешь – нет.
– Таня!
– Коля, тема закрыта. Я слишком долго вешалась к тебе на шею.
– Исправлюсь.
– Поздно, у меня другой.
Обычно неподвижное лицо Арнаутова исказила болезненная гримаса. Одновременно он закинул ногу на ногу, положил руку на спинку соседнего стула и посмотрел в потолок.
Татьяна вздохнула: детский сад, по-другому не назовешь.
– Я его знаю?
– Не о том думаешь. С системой ты разберешься, до пенсии доработаешь. Баб одиноких море, настоящий полковник всегда кому-нибудь пригодится. А вот сына можешь потерять совсем. Он, говорят, теперь к Лютому жить переехал?
– И что?
Кожурина подошла к Арнаутову. Встала рядом с ним, прислонившись к стене.
Арнаутов сел ровнее, снял локоть с соседнего стула.
– Что же он сбежал-то?
– Тесно у нас для двоих.
– Тесно? Или душно? Извини, но жена от тебя тоже сбежала.
– Тань, чего ты хочешь?
– Наставляю на путь истинный. Последний жест милосердия. Я ведь тебя все-таки любила.
И к Пашке хорошо отношусь. Верни его, пока не поздно.
– Что ж мне, на поклон идти?
– На разговор. Только без командного рыка и нравоучений. Не послушаешь меня сейчас – сдохнешь один, никому не нужный старый пес.
– Я уже такой.
– Это еще цветочки.
Кожурина вернулась к столу. Не садясь, взяла листок, что-то быстро написала на нем. Вернулась к Арнаутову:
– На, это адресок стажерки моей. Твой Пашка или у Лютого, или у нее.
– Когда успел…
– Или она успела. Я тебя почему тороплю: не нравится мне она. Непростая девочка. Всего не скажу, но Пашка может с ней влипнуть.
Арнаутов резко поднялся:
– Я ей ноги поотрываю!
– Хорошая фраза для начала разговора. Только не забудь перед этим еще дверь выбить. И у тебя все наладится.
Арнаутов, прочитав адрес, убрал записку. Они молча постояли перед друг другом. Арнаутов захотел ее обнять, но она, почувствовав это, отступила назад. Он сунул руки в карманы.
– Я что, никогда не был ласков с тобой?
Она ответила, почти не задумавшись:
– Был, Коля, был. За пять лет два раза. Иди, мне надо работать.
Она села за стол, раскрыла какую-то папку.
Арнаутов постоял, посмотрел на нее. Потом, ни слова не сказав, вышел.
Какое-то время Кожурина продолжала сидеть, машинально пробегая глазами по строкам документа и не понимая написанного. Потом отодвинула папку и взяла из ящика стола плоскую бутылочку коньяка. Выпила прямо из горлышка. Поставила бутылку на тумбочку – так, чтобы она была у нее под рукой, но не бросалась в глаза тому, кто войдет в кабинет, взяла телефон и набрала номер Стаса.
– Привет, это я. Скажи что-нибудь ласковое. А то сердце давит.
– Коньячку выпей.
– Ласково! А еще что-нибудь?
Стасу потребовалось время, чтобы ответить.
Кожурина слышала шум машин и какие-то отдаленные голоса – Скрябин был где-то на улице.
Он ответил:
– А еще… Я тебя люблю!
– Сто лет этих слов не слышала.
– А я сто лет их не говорил.
– Ты где?
– Работаю.
– Будь осторожен.
– Буду.
Она подумала, что уже сказала и услышала все, что хотела сказать и услышать, и собралась завершить разговор, как Скрябин спросил:
– Ты ребенка хочешь?
– Что?
– Ребенка, – повторил Стас, словно пробуя слово на вкус. – Только не говори про возраст и прочее. Хочешь или нет?
Ни один мужчина никогда ее об этом не спрашивал. Все считали само собой разумеющимся, что с детьми следует обождать. До окончания учебы. До тех пор, пока на работе не утвердишься. До улучшения жилищных условий. До повышения зарплаты. До… До…
Так всю жизнь и прождала.
Дождалась, что уже и сама почти перестала думать об этом.
А он взял и так просто спросил.
И она так же просто ответила:
– Да, хочу.
Помолчала и неуверенно добавила:
– А когда?
– Через девять месяцев.
– Я сегодня коньяк пила.
– Ничего, к вечеру выветрится. Все равно раньше девяти не закончим.
Кожурина услышала голос Шилова: он звал Стаса.
Закрыв трубку ладонью, Скрябин, видимо, что-то ответил, а после торопливо пояснил:
– Извини, надо бежать. Целую. Пока!
* * *
Они стояли в Румянцевском садике на Васильевском острове. Слева – Академия художеств, справа – Меншиковский дворец, за спиной – Нева. Прямо – обелиск в честь победы русских войск над турками в войне 1768-1774 гг.
– Когда я в Универе учился, – сказал Сапожников, – у нас байка ходила про студента с очень крайнего севера. Он здесь кисет с табаком закопал.
– Зачем?
– Чтобы на экзаменах не завалили и чтобы учеба хорошо шла. У них обычай такой. Когда приезжаешь жить на новое место, надо задобрить самого главного местного духа. Говорят, он с красным дипломом закончил.
– А потом пришел работать в уголовный розыск, – Шилов усмехнулся. – Ладно, это все лирика. Какие мысли по делу?
– Странно, что он это место выбрал. Со всех сторон, как на ладони.
– Он же Румын. Может, у них тоже принято подарки под памятниками закапывать, чтоб удача была… А что «как на ладони» – так и он всех видит. И по Второй линии проходняками можно уйти. Стас! Стас, ты где?
Скрябин был рядом, но в обсуждении участия не принимал. Он, как закончил телефонный разговор, так и стоял, с отрешенно-мечтательным видом глядя куда-то вдоль набережной. Только после того, как Шилов дважды громко позвал, он встрепенулся:
– Я здесь.
– Уверен? Давай предложения. Тут голяк, любую маскировку он срубит.
– Предложения… – Стас вздохнул. – Меня больше волнуют посторонние. Вон их тут сколько!
Народу действительно было много. Молодые мамы с колясками. Прогуливающиеся пенсионеры. Студенты. Дворники, неторопливо сгребающие опавшую листву.
– Посторонних я беру на себя, – сказал Шилов, – мне французы один приемчик показали по очищению пространства.
– Я за дворника сойду. А он, – Стас кивнул на Сапожникова, – пусть косит под студента. Можно даже с очень крайнего севера. Только сигареты не надо закапывать. Лучше просто стой и вспоминай таблицу умножения.
Утрясая детали плана, они прошлись по садику.
Неожиданно для Романа Скрябин спросил:
– Вчера, когда ты на гаишную машину пошел в лобовую, ты бы на самом деле?..
– Конечно! – мгновенно отреагировал Шилов. Но, выдержав паузу, поправился: – А если честно, Стас, то не знаю…