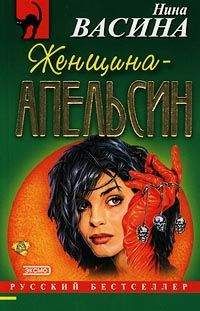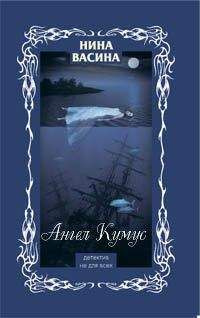– Я хочу извиниться, я проявила недопустимую профессиональную халатность, – начала Ева, как только они с Менцелем нашли свободную комнату и сели за стол.
– Ничего, – великодушно махнул рукой Доктор, – я успею еще до отбоя вернуться в больницу.
– Менцель! – повысила голос Ева. – Я не придала должного внимания вашим словам про тело, помните? Которое вы чуть не вскрыли, а оно было живое.
– Ах, это, – открыто посмотрел на часы хирург, – это странное и совершенно с научной точки зрения необъяснимое явление. Вы же спрашивали тогда про аномалии, вот я и вспомнил. Что, стоит сейчас об этом говорить?
– Да. Стоит!
– Он что, опять умер? Нет, позвольте, меня бы вызвали, нашли бы из-под земли. У него на этот счет заготовлено сообщение. Куда везти тело, кого из хирургов вызвать для констатации факта.
– Отчего он умер? – спросила Ева.
– Первый раз? – поинтересовался Менцель, блеснув хитрым взглядом из-под стеклышек очков, и пояснил: – Я почему спрашиваю: я давал подписку о неразглашении еще когда не был… как это сказать…
– Еще когда не были завербованы в КГБ.
– Ну да. Так вот эта подписка касалась его последующих смертей. А вернее сказать, она не касалась смертей, а касалась последующих оживаний, слово-то какое немедицинское, нет такого слова. В общем, я давал подписку ничего никому не говорить о его втором и третьем пришествии.
– И в первый раз он умер?.. – торопила Ева.
– Он умер от огнестрельного ранения. Грудная клетка… – начал было про подробности Менцель, но Ева перебила:
– Вы видели момент его воскрешения?
– Нет. Не видел. В тот раз не видел. Я пришел в морг, чтобы делать вскрытие, а он с санитаром чай пил. Я осмотрел тело, взял анализы, просил его остаться, но он ушел.
– Что-нибудь странное заметили?
– Конечно, что значит «что-нибудь?»! Сердце работало с перерывами, слишком длительными для нормальной жизнедеятельности…
– Я не о том, – опять перебила Ева и тут же мысленно обругала себя за это, – что-то совсем странное!
– А, вспомнил. Была одна странность. Пришли его родственницы, две женщины. Одна из них оставила сумку. Надо сказать, что женщина эта была такой запоминающейся наружности, что и сейчас я могу ее фотографически воспроизвести вот здесь, – Менцель прикоснулся пальцем ко лбу, – такая, знаете, незабвенная. Да. Так вот, она сказала странную вещь, я тогда не придал значения ее словам, списал на психоз, она оставила сумку с вещами и просила отдать ее Корневичу, когда он оживет. Она знала.
– И все-таки я спрашиваю не об этом, хотя ваша информация очень важная, – медленно проговорила Ева, уставившись в Менцеля такими широко раскрытыми глазами, что он нервно опустил свои, – я хотела узнать, ведь бывают случаи, когда констатируют смерть человека, а он потом приходит в себя. Та же летаргия. Нет, это здесь не подходит, я понимаю, – повысила голос Ева на протестующие движения руками Менцеля, – я для примера. Врач определяет смерть, а человек потом приходит в себя.
– Да, конечно, бывают, конечно. Все бывает. Но у него были задеты сердце и легкие. А в другой раз – проникающее ранение головы с повреждением мозга. И если бы только это! Его анализы крови выдали такое количество сильнодействующего яда, атрофирующего сердечную мышцу, кстати, я об этих уколах, – показал Менцель под мышку, – что все мои сомнения в непрофессионализме пропали. Я тоже, знаете, Распутина вспомнил. Тогда, в начале века, врачами, обследующими тело, была отмечена невероятная живучесть, которая граничила со святостью.
Ева расстегнула куртку, оттянула пушистый ворот свитера, стеклышки очков хирурга под яркими лампами гипнотизировали, она задыхалась и не верила ему.
– Ведь при множественных смертельных ранениях он умер в воде от переохлаждения!
– Кто? – шепчет Ева.
– Распутин. Вы что, не слушаете? Я хочу заметить, что бывают случаи невероятной живучести, но это не тот. Он не пахнет. Я сам определил. Он совсем не пахнет, понимаете? Не пахнет изо рта, не пахнут подмышки. Последний раз взятая моча выдала странный набор ферментов…
– Минуточку. Когда вы последний раз видели этого человека?
– Месяца два назад. Он обратился за помощью, но это было не по моей части. Ему надо было к психоаналитику.
– Я хочу это знать.
– Не уверен, что женщине следует это слушать. Это чисто мужской психоз.
– Сделаем так, – Ева достала фотографии, – чтобы я не узнала случайно совершенно посторонний и не относящийся к делу мужской психоз, посмотрите на фотографию. Это он? Мы говорим про этого человека?
– Он, – кивнул Менцель. – За эти годы ничуть не изменился. Я его один раз даже по телевизору видел.
– Почему он вас не убрал? – наклонилась над столом поближе к Менцелю Ева.
– Ну что вы. Он же мне перстень вручил. Сказал, что если у него случится в результате очередного несчастного случая такая коллизия, что, например, полголовы снесет и он все забудет, то чтобы я этот перстень ему показал. Меня никто не тронет. И он в том числе. Я думаю, его устраивал мой профессионализм, спокойствие и умение молчать, – с достоинством доложил Менцель. – Я никогда никому бы первый все это не стал рассказывать. Отвечать на вопросы, это да, но вдруг начать говорить про особенности рабочего материала патологоанатома, это, извините, чревато.
Ева не стала разочаровывать Менцеля и говорить, что Скрипач получил на него приказ из бригады «С». Потому что знала, как не связаны иногда бывают между собой разные отделы службы – до смешного. Приказ на ликвидицию ее отдела мог пойти по коду, как только из отдела поступил запрос на засекреченную информацию. Сейчас, сидя напротив опаздывающего в больницу к Юне хирурга, она поняла, что рассказ Менцеля про перстень подтверждает ее догадку о двух направлениях истребления отдела. Уколы под мышку – это скорее всего, учитывая исторический опыт, централизованный приказ по коду бригаде уборщиков. А конверты с заказами – работа совсем другого ведомства. Уколами были убиты трое: два фактурщика, работающие по фальшивым долларам, третий – если верить Зое – исповедник в силу своей принадлежности к исповедальне, психоаналитик. Кстати, о психоаналитиках.
– Что ему понадобилось два месяца назад? – настаивает Ева.
– Я вот так с ходу не могу воспроизвести поток информации. Это можно послушать у меня на пленках. Я записал.
– Он заметил?
– Да. Он ничего не сказал, я потом еще хотел эту пленку дать послушать специалисту, мне самому интересно наблюдать процесс жизнедеятельности и проводить хотя бы иногда эмоциональный и мозговой анализ при шоковом восстановительном процессе после смерти.
– Эта пленка в лаборатории? – встает Ева.
– Она была в моем столе, пока… сейчас там ведь все опечатано, идет следствие?
Ева едет в Лабораторию. Она звонит из машины, держа руль одной рукой, рассекает полосками света от фар взбесившееся небо, летящее хлопьями замерзших облаков прямо в стекло. Дома все в порядке. Маленькая Ева спит, Далила работает, а Кеша прогуливает в парке девочку, которую неизвестно как зовут.
– Где Илия?
Илия учит читать Сережу.
– Ее зовут Сусанна Ли.
– Что это еще за имя такое? – смеется на том конце трубки Далила. – Ты на такие имена реагируй настороженно. Помнишь Сонечку Талисманову? У нее каждый день было новое имя, и какое!
– Далила, ты знаешь, где они гуляют? – спрашивает Ева, с удивлением отметив страх за Кешу и за эту девочку, подкативший слабой тошнотой.
– Я их вижу из окна. Они лепят снеговика в парке через дорогу.
– Пусть они придут домой. Я заказала охрану.
Ева прошла в Лабораторию, долго рылась в столе Доктора, пленки не было. Уже вплотную подступив к отчаянию неудачи, уже нервничая и раздражаясь, она случайно открыла папку с пластиковой твердой обложкой и обнаружила в ней закрепленные шесть пленок. В закрытом виде это была просто папка с бумагами – лист сверху. На пяти пленках были написаны от руки названия произведений и композитор: Шнитке, Шнитке, опять Шнитке. На шестой – «К. де Валуа», Ева освобождала пленку от закрепляющей ее резинки торопливо, с нахлынувшим азартом близкой разгадки самой странной из встречавшихся ей тайн, а когда наконец услышала хрипловатый низкий голос, вдруг разом устала до головокружения. Ее хватило на двенадцать минут. Она стала проматывать пленку вперед – монотонный усталый голос безо всякого выражения навязывал отчаянием кошмара невероятный монолог про бога, пуповину и Млечный Путь. Ева так расстроилась, что даже тихонько завыла, выдернула пленку из магнитофона и с трудом удержалась, чтобы не запустить ею в стену.
Здесь, в пустом холодном кабинете Доктора, она дала себе слово, что узнает разгадку. Какими бы вновь рожденными девушками и ожившими агентами КГБ ее ни сбивали с толку.