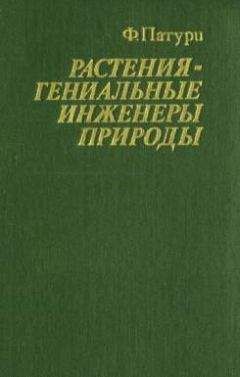* * *
…Три бани находятся в Таганском районе, в в любую из них нелегко попасть. В постоянных очередях люди теряют многие часы. — Ремонтируем, — оправдываются директора бань. — Вот закончим ремонт, тогда станет посвободнее… Однако ремонт идет слишком медленно. Необходимого внимания этим коммунально-бытовым предприятиям районные организации не уделяют.
«Известия»
Я спустился по лестнице, и всего меня еще сотрясало уходящее напряжение, злость и ужасная обида. Было стыдно, больно, а самое главное, очень досадно, что я только-только начал нащупывать тоненькую тропку тверди в этом мутном и запутанном деле Груздева, какие-то не совсем оформившиеся догадки бились в моем мозгу, ища крошечную лазейку, которая вывела бы нас всех к истине, — и вот, пожалуйте бриться! Жеглов меня теперь точно отстранит от этого дела, он мне не простит такого поведения в присутствии всей группы. Ну и черт с ним! Конечно, по существу я не прав, но и он не имел права на такую подлую выходку. Шкодник! Злобный шкодник!..
— Володя! Володя!..
Я обернулся и увидел Варю — она была в светлом легком пальто, в модных лодочках и держала в руке зонт, и зонт, именно зонт, подсказал мне, что она уже не младший сержант Синичкина, а просто Варя. Зонт — штука исключительно штатская.
— Володя, я из управления кадров…
— Демобилизация?
— Точно! С 20 ноября.
— Поздравляю, Варя. Что теперь?
— Завтра поеду в институт за программами.
— И забудешь нас навсегда?
— Во-первых, еще неделю работать. А во-вторых, завтра управленческий вечер. Ты придешь?
— Если мне Жеглов какого-нибудь дела не придумает, — сказал я и, вспомнив наш скандал, добавил: — А скорее всего, приду…
— У тебя неприятности? — спросила Варя, и я подумал, что человек моей нынешней профессии должен был бы лучше уметь скрывать свое настроение.
— Как сказать… — пожал я плечами. — Особо хвалиться нечем…
— Тебе не нравится эта работа? — спросила Варя.
Она взяла меня под руку и повела к выходу, и получилось у нее это так просто, естественно, может быть, ей зонтик помогал — никакой она уже не была младший сержант, а была молодая красивая женщина, и мне вдруг ужасно захотелось пожаловаться ей на мои невзгоды и тяготы, и только боязнь показаться нытиком и растяпой удерживала меня.
— Что с тобой, Володя? Расскажи — может быть, вместе придумаем, — снова спросила Варя.
Мы вышли на улицу, в дымящийся туманом дождливый сумрак, и я, чувствуя в сердце острый холодок смелости, крепко взял ее за руку и притянул к себе:
— Варя, нельзя мне, наверное, говорить тебе это — женщины любят твердых и сильных мужчин… Но мне, кроме тебя, и сказать-то некому!..
Она не отстранилась и сказала ласково:
— Много ты знаешь, кого любят женщины! И тебе никогда не научиться лицедейству…
От измороси фонари казались фиолетовыми; звенели капли, и протяжно пел над головой троллейбусный провод.
— Варя, я не могу к этому привыкнуть — часы, минуты, стрелки, циферблаты; гонит время, как на перекладных, все кругом кого-то ловят, врут, хватают, плачут, стонут, шлюхи хохочут, стрельба, воришки, засады; никогда не знаю, прав я или виноват…
— Володя, дорогой, а разве на войне тебе было легко?
— Варя, я не про легкость! На войне все было просто — враг был там, за линией фронта! А здесь, на этой проклятой работе, я начинаю никому не верить…
Никого не было на вечерней, расхлестанной дождем, синей улице. Варя неожиданно двумя руками взяла меня за лицо и поцеловала, и это было как сладостный обморок; на губах ее был вкус яблок и дождя.
Она прижимала к себе мою голову и быстро, еле слышно говорила:
— Ты еще мальчик совсем, ты устал очень и не веришь в себя, потому что еще только учишься делу, еще показать себя как следует не можешь… Ты мне верь — женщины чувствуют это лучше: ты на своем месте нужнее Жеглова. Ты как черный хлеб — сильный и честный. Ты всегда будешь за справедливость. Ведь если нет справедливости, то и сытость людям опостылеет, правда?..
У нее глаза были огромные, морозные, один серый, а другой ярко-зеленый, и я знал, что никогда в жизни не смогу обмануть ее, и нежность теплым облаком билась во мне, как огонь в фонаре. Теряя сознание от счастья, я целовал под проливным дождем ее глаза, и во мне обрывалось что-то, когда я вспоминал, что скоро кончится наш путь — мы дойдем до ее дома и мне надо будет уйти.
Варя раскрыла зонт, и мы шли под ним оба; я первый раз в жизни шел под зонтом, мне всегда это казалось ужасно стыдным — стыднее было бы только носить галоши, — и я бы охотно поклялся теперь ходить всю жизнь под зонтом, если бы со мной была Варя.
— Володенька, пройдет невыносимо много лет — двадцать, тридцать, — мы уже совсем состаримся, и в каком-нибудь семьдесят пятом году здесь тоже пройдут влюбленные, и любовь их останется такой же внезапной и пугающей, как крик в ночи, но бояться они будут только своих чувств, потому что не станет уже в те времена воров, бандитов и шлюх, и людям придется плакать разве что от счастья, а не от страха. Никто никого не станет ловить и хватать, и этим будут тогдашние влюбленные тоже обязаны тебе, мой солдатик…
Ее запрокинутое лицо было холодно и светло, а ночь вокруг нас влажно блестела на черных, как жегловские сапоги, тротуарах, и как я ни был счастлив, в сердце ледышкой позванивал беззвучный лет времени…
У дверей ее дома я сказал:
— Не могу без тебя…
— Мы увидимся завтра. Ты же собирался прийти на вечер…
— Нет, я не об этом. Я хочу всегда, все время… Каждую минуту.
Она поцеловала меня и нежно, будто умывая, провела своими длинными прохладными ладошками по лицу:
— Не спеши…
И ушла.
Медленно брел я домой, и ощущение счастья постепенно утекало, и какое-то тайное беспокойство уже точило меня неотступно. Кислый вкус досады лежал на губах, и я не мог понять, что меня изводит, пока вдруг не пришло мрачное озарение — Жеглов! Я же выгнал его! Я сказал, чтобы он сегодня же сматывался. А ведь это свинство, наверное… Конечно, слов нет, сволочной номер он отколол. Допустим, обиделся я на него. Да будь я человеком, взял бы и сам ушел. Что мне, переночевать негде? А то сначала позвал к себе жить бездомного человека, а потом взбесился и вышиб из дома в один хлоп!
Случись у меня такая штука с Тараскиным или Пасюком, все было бы проще — можно было бы извиниться и позвать обратно. А с Жегловым-то ужасно — он ведь может подумать, что я перетрусил и решил к нему подлизаться. Ой, стыдуха! Что же придумать? Как теперь выкручиваться? А главное, Жеглов ведь наверняка уже выписался из общежития. К Тараскину или Копырину пошел ночевать. Черт бы меня побрал с моим проклятым языком! Тоже мне купчишка нашелся: «Убирайся с моей жилплощади!» Тьфу!
Ругая себя, я поднялся на второй этаж, отпер квартиру, тихонько прошел по коридору, отворил свою дверь и зажег свет. Накрывшись с головой, на диване уютно похрапывал Жеглов, на столе валялось несколько банок консервов и четыре плитки шоколада. А посреди комнаты стояли его ярко начищенные сапоги.
Жеглов отбросил край одеяла, приподнял с подушки заспанное лицо и сердито буркнул:
— Гаси свет! Нету от тебя покоя ни днем ни ночью…
Откинулся и сразу же крепко заснул. И ощущение счастья опять нахлынуло на меня. Так я и уснул в твердой уверенности, что весь мир удивительно прекрасен…
ИППОДРОМ
Ленинградское шоссе, 25.
24 октября.
РЫСИСТЫЕ ИСПЫТАНИЯ.
Начало в 3 ч. дня.
Буфет. Оркестр.
Объявление
Проснулся я от ужасного истошного крика, словно прорезавшего дверь дисковой пилой. Очумелый со сна, пытался я сообразить, что там могло случиться, и подумал, что в квартире у нас кто-то помер. И пока я старался нашарить ногой сапоги, Жеглов уже слетел с дивана и, натягивая на бегу галифе, босиком выскочил в коридор.
В коридоре, заходясь острым пронзительным криком, каталась по полу Шурка Баранова. На ее тощей сморщенной шее надувались синие веревки жил, красные пятна рубцами пали на изможденное лицо, и такое нечеловеческое страдание, такие ужас и отчаяние были на нем, что я понял — случилось ужасное.
Жеглов, стоя перед Шуркой на коленях, держал ее за костистые плечи.
— Дай воды! — крикнул мне Глеб.
Я так ошалел от ее крика, так испугался, что побежал почему-то не на кухню, а в комнату, и никак не мог найти кружку, потом схватил кувшин, и Жеглов, набирая воду в рот, брызгал ей в лицо. Жались по углам перепуганные соседи, тоненько скулил старший Шуркин сын Генка, и замер с нелепой бессмысленной улыбкой ее муж инвалид Семен.
— Карточки! Кар-то-чки! — кричала Шурка страшным нутряным воплем, и в крике ее был покойницкий ужас и звериная тоска. — Все! Все! Продуктовые кар-то-чки! Укра-ли-и-и-и!.. Пятеро малых… с… голоду… помрут!.. А-а-а! Месяц… только… начался… За весь… месяц… карточки!.. Чем… кормить… я… их… БУДУ! А-а-а!..