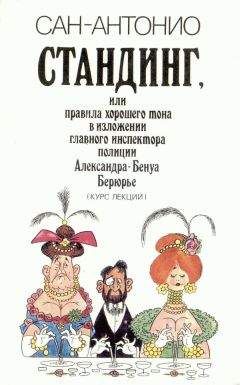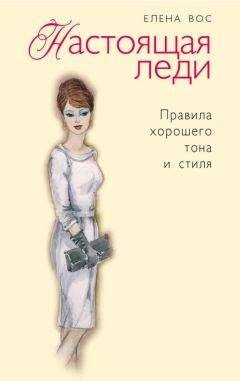На пергаменте его лица видны свежие трещины. Он что-то бормочет, а его выпирающий кадык ходит вверх-вниз, как живот старого священника, работающего капелланом в родильном доме.
— Госпожа графиня, я думаю, что требуется вмешательство мадам графини.
Он указывает своим щучьим подбородком на соседнюю комнату, где свирепствует Толстяк. Мы устремляемся туда. Я бегу позади дамы, что дает мне неповторимый случай лицезреть вальсирующие полусферы ее седалища. И мне сдается, что, говоря между нами и между прочим, Его Высочеству Берю Первому скучать с ней не приходится. Трапезная Труссаль де Труссо имеет внушительные размеры. Одну из стен занимает монументальный камин. И кого же мы видим перед этим очагом? Иес, конечно же, Берю. Но это не тот Берю, которого я знаю. Этот Берю — вандал, этот Берю — святотатец, доламывающий ударами своей ножищи кабинет эпохи Ренессанса. Изящные выдвижные ящички кабинета, инкрустированные перламутром, уже весело потрескивают в камине.
Толстяк весь в поту и в рубашке с закатанными рукавами, что не противоречит одно другому.
— Ах ты, развалюха! — ревет он. — Вся изъедена жучками, а туда же, сопротивляется!
— Несчастный, что вы делаете! — восклицает графиня.
— Костер, моя графиня, — отвечает Громадина, доламывая кабинет последним ударом каблука.
Потом плавным округлым движением руки он вытирает пот со лба и заявляет:
— У Фелиция закончились дрова, и я откопал эту рухлядь в коридоре.
— Кабинет эпохи! — кричит криком насилуемой девочки благородная дама.
— Кабинет? — изумленно восклицает Мастодонт. И пожимает своими могучими плечами.
— А я и не понял. Я, конечно, видел в своей жизни маленькие туалетные кабинеты, но чтобы такой маленький — никогда.
— Этот человек лишился разума! — с рыданьем исторгает из себя дама Труссаль де Труссо, упав мне на грудь. — Мебель Ренессанса! Она обошлась мне в два миллиона!
На какое-то мгновение Бизон теряет дар речи.
— Два миллиона! За этот сундук с клопами, который держался только на честном слове! Не хочу подрывать ваш моральный дух, моя графиня, но все же скажу: продавец наколол вас как девочку. Я за сотенную тебе, то есть, вам, притащу с городской барахолки мебель и практичнее и прочнее, чем эта.
Он бросает в костер ножки от кабинета.
— Поверьте мне, душа моя, ничто не стоит нового!
Ну, это уж слишком. Графиня делает прыжок в направлении этого Атиллы с маникюром.
— Мон шер, — цедит она сквозь зубки, — вы законченный придурок и хам. Я запрещаю вам доступ в мой дом, пока вы не станете настоящим джентльменом.
Толстяк подавлен. Его прекрасная, цвета любимого им божоле, физиономия становится несчастной.
— Да что с вами, моя графиня? Будем мы цапаться из-за этого сортира Ренессанса! Если вам так нравятся обноски, то я пошарюсь на блошином рынке на предмет подыскать что-нибудь заместо этой конуры для недоносков. Там у меня есть дружок, который как раз торгует всякой рухлядью.
Но она остается непреклонной.
— Уходите, месье!
Бедный Берю натягивает пиджак. Он такой несчастный! Он в таком отчаянии! И мне стало его жалко.
— Госпожа графиня, — перехожу я в наступление, — может быть, вы его простите…
Она отрицательно качает головой.
— Я просила его заняться самовоспитанием, самообразованием, короче, стать человеком, с которым не стыдно появляться на людях. Однако он остается на прежнем уровне!
Тут Берюрье не выдерживает и бурно и страстно извергает из себя всю злость, которую он обычно оставляет для торжественных случаев.
— Не надо посягать на мою честь мужчины, дочка! — взрывается он. —Я? На прежнем уровне! В этом смокинге, сшитом у Бодиграфа, в этой белой рубашке! На том же уровне! С такими граблями, за которые, чтобы они были такими, Филипп Английский стал бы платить жалованье своей благоверной! На том же уровне! И это после того, как я уже пропахал несколько глав из вашего пособия! Не обижайтесь, но вы ко всему прочему еще в сектантка! В постели со мной, да будет вам известно, вы что-то мало думаете о хороших манерах, когда зовете благим матом, мадам, вашу мать!
— Я сейчас умру! — с пафосом восклицает графиня.
— Именно это вы всегда утверждаете в том случае, на счет которого я намекнул, — скалится Берю.
Он идет к двери и говорит, размахивая своей энциклопедией:
— Я поднимаю вызов, моя графиня, хоккей, идет. Я стану светским человеком и в одни прекрасный день вернусь сюда с такими манерами, что рядом со мной сам граф Парижский будет выглядеть продавцом ракушек.
Он кладет свою левую руку на энциклопедию правил хорошего тона будто на библию и изрекает голосом актера из Комеди-франсэз:
— Клянусь на ней!
— Госпожа графиня попросила вас выйти! — скрипит, как старая осина, лакей.
Берю в упор рассматривает его и говорит:
— Ну, ты, мумия, исчезни! Потому что до того, как я стану джентльменом, я так тебе могу врезать приемом «Кабинет Ренессанса», что, принимая во внимание твою архитектуру, из тебя как раз и получится кучка дровишек!
Затем, повернувшись ко мне, он добавляет:
— Сан-А, у меня сейчас нет времени штудировать этот Кодекс, поэтому я не знаю, нарушаю я или нет правила хорошего тона, заявляя тебе об этом, только я не хочу, чтобы ты оставался рубать один на один с мадам. Хоть она меня и отругала, я все равно питаю к ней слабость, и если ты с ней останешься тет-а-тет, я буду ревновать.
Все это было сказано в такой категоричной форме, что я немедля откланиваюсь:
— Мадам, после такого ультиматума я могу лишь просить у вас разрешения удалиться.
Она сухо протягивает мне руку, и я, не менее сухо, прикладываюсь к ней губами.
— Конечно, — брюзжит Толстяк, когда мы спускаемся в лифте, — тебе легко, ты во всем этом разбираешься. Что до лобзания рук и прочих нежностей, то это у тебя в крови. У тебя и язык прилизанный, и слова ты выбираешь ученые, и глаголы ты спрягаешь правильно. А я…
Его покрасневшие глаза наполняются большими крупными слезами.
— Без роду, без племени, предок — алкан. Разве с таким багажом перед тобой откроют ворота Букинджемского дворца?
Я по-дружески хлопаю его по плечу.
— Не стони, голова садовая, ты — сама простота, и это-то и подкупает в тебе. Доказать? Пожалуйста: все тебя любят. Потому быстренько запихай эту идиотскую книженцию в первую попавшуюся водосточную трубу и стань самим собой.
Но он отрицательно качает головой.
— Можно подумать, что ты совсем не знаешь твоего Берю, парень. Клятва — это клятва. Я поклялся стать парнем что надо и с манерами на «три звездочки»[9], и я им стану. И пусть в тот день она, моя графиня, лучше не просит меня разжечь огонь в камине, например!
— Да будет тебе, зайдем лучше пообедаем ко мне, — предлагаю я. Он отказывается.
— Нет, я иду домой и буду тренироваться в расшаркивании; имея в виду мои пробелы, мне нельзя терять ни одной минуты.
Мы выходим из дома, и он уходит с высоко поднятой головой навстречу своему геральдическому будущему.
Глава 3
В которой визит дружбы имеет самые серьезные последствия
Обеспокоенный этими событиями, которые могут отрицательно сказаться на индивидуальности Берюрье, я иду домой, чтобы быстренько пообедать. Моя мама, Фелиция, будет приятно удивлена. Фелиция у меня как птичка божья. Живет моими приходами и не переставая бормочет молитвы в адрес более или менее официально признанных святых, чтобы я почаще являлся пред ее очи. Любимица Фелиции — сестра Тереза от Дитя Христова. Вместе с тем больше всего ей помогает маленькая Мартина. Как тут не поверишь в то, что причисленные к лику святых — это те же самые горничные: чем они моложе, тем больше у них КПД. По моему мнению, Фелицию больше всего впечатляют розы, розовый дождь. Когда я был пацаном, матушка рассказывала мне о том, как в честь юной кармелитки все хрустальные вазы утопали в розах. Это же знамение — розовый дождь, правда? А ведь для многих дождь льет обычным дождем!
Я хмурю брови, заметив перед решеткой нашего особняка на Сен-Клу машину, «Рено-8» с лионским номером. Гости из Лиона? Что бы это значило?
Я направляюсь к своему дому по аллее, посыпанной гравием (хотя на аллее гораздо меньше неприличного гравия, чем в моих сочинениях). Осень, как трубочист, прочистила сад. И теперь, как говорится, деревья стоят деревянные, а земля лежит в печали. Однако это не подорвало дух нашего обиталища, наш дом выглядит даже нарядно со своим стыдливым от своей наготы виноградником, своими зелеными ставнями и цветастыми шторами на окнах. По радио надрывает голосовые связки Беко.
Я толкаю дверь и оказываюсь в кокетливой прихожей, стены которой обиты матерчатыми обоями фабрики Жуй, на которых изображены пастухи и пастушки, предающиеся любовным утехам под кронами деревьев, в стиле Людовика XV.