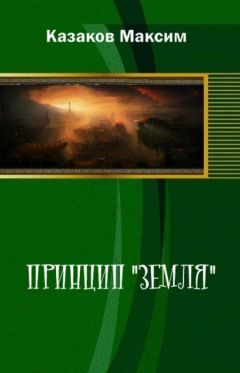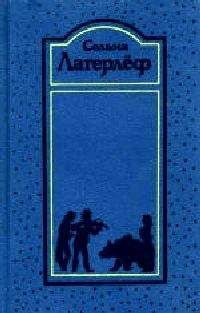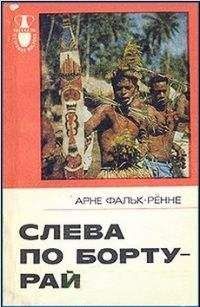— Вы хотите наказать меня в назидание другим?
— Не хотим, а должны. Факты говорят о том, что вы принадлежите к наименее морально устойчивому контингенту полицейских, вы умеете хорошо говорить, а думать — возможно, даже слишком, хорошо. Но наша работа проста: не только вычищать из рядов полиции отдельных полицейских с гнильцой, это само собой, но и следить за тем, чтобы недопустимые настроения не получали официального одобрения. В этом мы чертовски близки к полицейскому государству. И так же устроено общество в целом. Мы не даем кромешному аду вырваться наружу. Проекциями наших собственных неудач. Голос народа — голос единственно правильного решения. И кожей этого рыхлого общественного тела является власть порядка. Здесь, на тонкой грани между порядком и хаосом, и находимся мы, подвергаясь опасности со всех сторон. Если кожа где-то порвется, то все внутренности общества вывалятся наружу. Вы понимаете, к чему может привести ваше небольшое своеволие? Я на самом деле хочу, чтобы вы поняли.
Йельм смотрел Грундстрёму прямо в глаза. И не мог точно определить, что именно он видит. Честолюбие и карьеризм, вступившие в конфликт с верностью долгу и порядочностью? Возможно. Или даже искреннее беспокойство за то, какие настроения будоражат умы тех, кто носит полицейскую форму. Грундстрёму никогда не быть для них просто коллегой, его задача — всегда оставаться в стороне, вне системы. Он претендовал на роль «супер-эго» всей полиции. Только сейчас Йельм осознал, сколь велики полномочия Грундстрёма. И, кажется, понял, зачем они ему даны.
Он опустил глаза и тихо ответил:
— Я всего лишь хотел разрешить критическую ситуацию так быстро, просто и хорошо, как смогу.
— Не бывает единичных поступков. — Грундстрём поймал взгляд Йельма. В его голосе мелькнул оттенок личного отношения. — Каждый поступок всегда связан с множеством других поступков.
— Я знал, что могу его спасти. Это все, чего я хотел.
Грундстрём не отвел глаз:
— Это действительно так? Загляни в свое сердце, Йельм.
С минуту они сидели, изучающе глядя друг на друга. Время летело быстро.
Ничего не происходило, только этот обмен взглядами.
Наконец Грундстрём со вздохом поднялся. Мортенсон последовал его примеру. Пока Никлас Грундстрём собирал свой портфель, Йельм заметил, что он еще совсем молод, практически его ровесник.
Мортенсон сказал:
— Для начала мы хотим, чтобы вы сдали свое удостоверение и табельное оружие. Далее, вы отстраняетесь от исполнения служебных обязанностей. Но допрос продолжится завтра. Еще ничего не кончено, Йельм.
Йельм положил на стол удостоверение полицейского и пистолет и вышел из комнаты для допросов. Он прикрыл за собой дверь наполовину, как делают все, кто любит подслушивать, и приложил ухо к узкой щели.
Может быть, ему удалось расслышать слова: «Теперь он в наших руках».
А может быть, за дверью стояла тишина.
В непроницаемой темноте он долго, долго отливал. Пять бутылок вечернего пива зараз. Пока он стоял, выливая в унитаз мысли вместе с мочой, вокруг него начали проступать контуры ванной комнаты. Света еще хватало, чтобы разглядеть тьму. Через полминуты стало так темно, как если бы тьма перестала существовать. Когда он выдавил из себя последние капли, тьма действительно наступила.
Смывая за собой, он подумал, что своя моча не пахнет.
И снова его лицо в зеркале, слабая светлая полоска окружает его голову. Во тьме, в той тьме, что окружала его неотступно, он увидел Грундстрёма. «Загляни в свое сердце, Йельм!» Потом возник Мортенсон: «Еще ничего не кончено, Йельм». И Сванте: «Тихо, Полле, не делай глупостей». А затем появился сын Данне, вот он стоит у светлой пелены, отделяющей детство от юности, не сводя глаз с отца. А вот Фракулла, тихо: «Я жертвую собой ради них». И Силла, Силла тоже здесь, в безликой тьме: «Неужели тебе до сих пор отвратительны естественные функции женского тела?»
Загляни в свое сердце, Йельм.
Такая пустота, такая ужасающая пустота.
Все разваливается. Отстранен от должности, уволен. Даже не пособие по безработице. Социальное пособие. Кому захочется иметь дело с разжалованным полицейским?
Ночлежки на вокзалах, ненависть к социальным пособиям, жаргон черномазых. Конечно, он, как все, презирал живущих на пособие, это сборище дармоедов. А теперь сам очутился среди них. Почва ушла из-под ног. Он болтается в мерзкой пустоте.
А где же полицейское руководство? Все его бросили. Лучше бы он застрелил их всех.
Грундстрём: «В этом мы чертовски близки к полицейскому государству».
В ванной комнате постепенно проступили очертания предметов, они обрели объем и заняли свои места. Глаза привыкли, и ночь сбросила плащ-невидимку. Пора бы уже разглядеть и собственное лицо. Но оно не проступало. Оно все еще пряталось во тьме.
Лишь силуэт.
Загляни в свое сердце, Йельм.
Он сидит совершенно неподвижно в темноте, которая не совсем темна. Сквозь балконную дверь от парадного входа просачивается свет уличного фонаря. Если он повернет голову, то увидит два больших музейных здания, тускло освещенных изнутри. Но он не поворачивает головы. Стоит полная тишина. Взгляд его все время устремлен в одном направлении — к полуоткрытой двойной двери, ведущей в прихожую. Он уже оглядел комнату. Кафельная печь и камин в одном помещении. Рядом с камином большой матово-черный телевизор и поставленные друг на друга видео- и стереоустановки. На полу три сотканных вручную ковра с изображением картин. Два обеденных стола со стульями и громадный кожаный диван темно-красного цвета. На стенах картины современных шведских художников, три Петера Даля, две Бенгта Линдстрёма и два Ула Билльгрена. На каминной полке красуется большая мозаичная утка Эрнста Билльгрена. На двух планах квартиры отмечено в общей сложности семь печей. Если предыдущая гостиная была безвкусной, то эта выглядит очень стильно.
Он сидит в одном и том же положении около часа.
Затем он слышит, как открывается входная дверь. Звенят ключи, никак не желающие слушаться мужчину, который, как он знает, возвращается домой один. Мужчина тихо ругается, понятно, что он немного выпил, но владеет собой. Или, точнее: выпил как человек, знающий свою меру и способный весь вечер ее придерживаться, дабы не испортить удовольствие. Он слышит, как мужчина снимает ботинки и не спеша надевает тапочки; даже, кажется, как расстегивает пиджак, развязывает галстук, снимает и вешает шелковую рубашку.
Мужчина толкает створку наполовину открытой двойной двери метра в три высотой. Входит в гостиную, спотыкается, теряя одну тапочку, чертыхается, наклоняется, пытаясь снова ее надеть, затем выпрямляется и видит его сквозь дымку хмеля. Пробует разглядеть его и громогласно восклицает:
— Три тысячи чертей, это что за фигня?!
Последние слова великих людей, ставшие афоризмами.
Он поднимает пистолет и делает два коротких беззвучных выстрела.
Мгновение мужчина стоит тихо, очень тихо. Потом оседает на пол.
Несколько секунд стоит на коленях, не шевелясь, затем валится в сторону.
Он кладет пистолет на стеклянный столик и делает глубокий вдох.
Перед его внутренним взором всплывает список. Он мысленно ставит в нем галочку.
Затем подходит к стереоустановке и нажимает кнопку. Плавно открывается прорезь для кассеты, кассета скользит внутрь, прорезь столь же плавно закрывается, и первые звуки фортепиано плывут по комнате. Пальцы перебирают: вверх-вниз, руки перебегают: вперед-назад. Вступает саксофон и подхватывает мелодию фортепиано. Тот же шаг, тот же маленький променад. Когда саксофон остается один, танцуя и прыгая, а фортепиано начинает кротко подыгрывать на заднем фоне, пинцет извлекает из стены первую пулю. Он опускает ее в карман, подносит пинцет ко второй дырке и замирает в ожидании. Еще две маленьких барабанных партии. Саксофон выписывает какую-то удивительную арабеску, и несколько секунд длится прогулка на восток. Затем фортепиано умолкает. Остаются саксофон, басы и барабаны. Он видит, как пианист покачивается, ожидая. Yeah, u-hu. Он тоже ждет. Пинцет возле дырки.
Саксофон взбирается к своим высотам, все быстрее. Ай! Неужели сам саксофонист издает эти маленькие возгласы между тактами?
Вот оно, аплодисменты, слушатели переговариваются, переход от саксофона к фортепиано, и в этот момент он с усилием вытаскивает вторую пулю. Вот так. Стружка летит на пол. Сплющенный комочек падает в карман и присоединяется к первому.
Саксофон уступает место фортепиано. Оно начинает свои неловкие пассажи. Затем освобождается от строгой схемы и парит все свободнее, все красивее. Он может слышать эту красоту даже сейчас. Внутри себя. Не только как… напоминание.