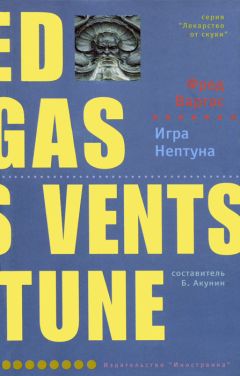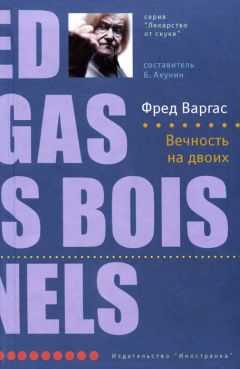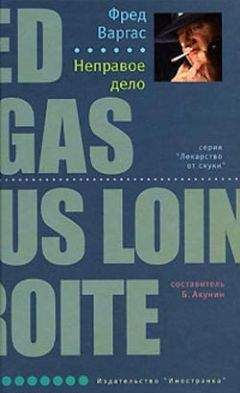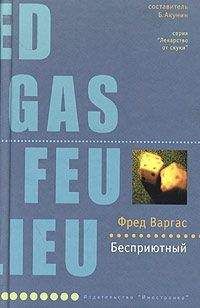— Могу себе представить, Орель.
— Ладно, я тебя простил. Ясно? Другого выхода не было. Знаешь, ты слишком головастый для романтика.
— Комиссар, — вмешался Брезийон, — Фавра перевели в Сент-Этьен, с испытательным сроком. У вас проблем не будет, я решил ограничиться устным внушением. Но ведь судья обошел вас, так?
— Обошел.
— Учтите этот опыт на будущее.
Лалиберте цапнул Брезийона за плечо.
— Не дрейфь, — подмигнул он. — Другая такая сволочь, как его демон, не скоро народится.
Окружной комиссар стряхнул с себя лапу суперинтенданта, извинился и покинул их. Его ждала трибуна.
— Твой шеф нудный, как сама смерть, — с ухмылкой прокомментировал Лалиберте. — Говорит как по писаному, смотрит как неродной. Он всегда такой?
— Нет, иногда Брезийон гасит окурки большим пальцем.
К ним решительно направлялся Трабельман.
— Конец детскому кошмару, — объявил он, пожимая Адамбергу руку. — Выходит, и принцы умеют извергать огонь.
— Черные принцы.
— Ну да, черные.
— Спасибо, что пришли, Трабельман.
— Извините за Страсбургский собор. Я был не прав.
— Не стоит ни о чем сожалеть. Он не покидал меня все это долгое время.
Подумав о соборе, Адамберг понял, что зверинец исчез, освободив окна, колокольню, портал и паперть. Животные вернулись по домам. Несси — в Лох-Несс, драконы — в сказки, лабрадоры — в фантазии, рыба — в свое розовое озеро, гусиный вожак — на Утауэ, треть майора — в его кабинет. Собор снова стал свободно парящей в облаках жемчужиной готической архитектуры.
— Сто сорок два метра, — сказал Трабельман и взял себе шампанского. — Никому такое не под силу. Ни вам, ни мне.
Он рассмеялся.
— Разве что в сказке, — добавил Адамберг.
— Вот именно, комиссар, вот именно.
Когда отзвучали речи и Данглар получил медаль, началось излияние чувств, голоса, подогретые шампанским, звучали все громче. Адамберг пошел поприветствовать свой отдел: после его побега двадцать шесть человек двадцать дней затаив дыхание ждали развязки, и ни один не поверил в его виновность. Он услышал голос Клементины — вокруг нее собрались бригадир Гардон, Жозетта, Ретанкур, которую ни на шаг не отпускал от себя Эсталер, и Данглар — он то и дело доливал шампанское в бокалы.
— Я ведь говорила, что он цепкий, этот призрак, и была права! Так это вы, детка, — Клементина повернулась к Ретанкур, — вывели его, укрыв своими юбками, под самым носом у полицейских? Сколько их было?
— Трое на шести квадратных метрах.
— Отлично сработано. Такого, как он, можно поднять, как перышко. Я всегда говорю — чем проще, тем лучше.
Адамберг улыбнулся, и Санкартье последовал его примеру.
— Черт, приятно все это видеть, — сказал он. — Все припарадились… Тебе здорово идет форма. Что это за серебряные листочки на эполете?
— Не клен. Дуб и олива.
— Что они символизируют?
— Мудрость и Мир.
— Ты только не обижайся, но по-моему, это не твое. Вдохновение — да. Я тебя не подкалываю. Вот только не знаю, какие листья могли бы стать его символом.
Санкартье устремил простодушный взгляд в пространство, как будто искал там символ Вдохновения.
— Трава, — подсказал Адамберг. — Что скажешь насчет травы?
— А подсолнухи? Нет, на плечах легавого это будет выглядеть глупо.
— Моя интуиция иногда напоминает сорную траву.
— Да ну?
— Вот тебе и ну. Бывает, я попадаю пальцем в небо, Санкартье, как последний кретин. У меня пятимесячный сын, а я это понял три дня назад.
— Ты не знал?
— Ни-че-го.
— Она тебя бросила?
— Нет, я ее.
— Разлюбил?
— Да нет. Не знаю.
— Но ты шлялся по бабам.
— Шлялся.
— И врал, а ей это не нравилось.
— Врал.
— А потом ты взял назад свои клятвы и отвалил.
— Краткость — сестра таланта.
— Так ты из-за нее в тот вечер напился в «Шлюзе»?
— И из-за нее тоже.
Санкартье залпом допил шампанское.
— Извини, что влезаю, но, раз уж у тебя от всего этого депрессуха, значит, ты запутался. Врубаешься?
— А то.
— Советчик из меня никакой, но ты давай, пусти логику в дело и включи мозги.
Адамберг покачал головой.
— Она отстраняется, я кажусь ей опасным.
— И все-таки, если хочешь вернуть ее доверие, стоит попытаться.
— Но как?
— Бери пример с лесников. Они выкорчевывают сухостой и сажают молодняк.
Санкартье постучал пальцем по виску — мол, используй «серое вещество».
— Оседлай и скачи? — улыбнулся Адамберг.
— Именно так, парень.
Рафаэль и Жан-Батист Адамберги возвращались домой в два часа ночи, они шли в ногу, касаясь друг друга плечами.
— Я еду в деревню, Жан-Батист.
— И я с тобой. Брезийон дал мне неделю отпуска. Он полагает, я должен оправиться от шока.
— Как ты думаешь, ребята до сих пор взрывают жаб у прачечной?
— Наверняка, Рафаэль.
Восемь членов квебекской экспедиции провожали Лалиберте и Санкартье в Руасси. Самолет улетал на Монреаль в 16.50. За последние семь недель Адамберг в шестой раз оказывался в этом аэропорту, и всякий раз у него было разное состояние духа. Присоединившись к коллегам под табло, он почти удивился, не увидев среди них Жан-Пьера Эмиля Роже Фейе, славного Жан-Пьера, которому он с радостью пожал бы руку.
Они с Санкартье отошли в сторонку — канадец хотел подарить ему свою всепогодную двенадцатикарманную куртку.
— Смотри, — объяснял Санкартье, — это не простая куртка, а двусторонняя. Наденешь черной стороной — укроешься от непогоды, снег и дождь тебе будут не страшны. А наденешь синей — будешь виден на снегу как на ладони, но она не отталкивает воду. Можешь промокнуть. Куртка под настроение, как хочешь, так и надевай. Не обижайся, все как в жизни.
Адамберг провел рукой по короткому ежику волос.
— Я понимаю, — кивнул он.
— Бери, — Санкартье сунул куртку Адамбергу, — будешь меня помнить.
— Тебя я точно никогда не забуду, — прошептал Адамберг.
Санкартье хлопнул его по плечу.
— Включай мозги, вставай на лыжи и вперед! Желаю удачи.
— Передай от меня привет сторожевому бельчонку.
— Черт, так ты его приметил? Джеральда?
— Его зовут Джеральд?
— Да. Ночью он прячется в водосточной трубе, она ведь покрыта антифризом. Вот ведь хитрюга! А днем выходит на дежурство. Знаешь, у него была любовная драма…
— Я не в курсе — у меня тоже были проблемы.
— Но ты заметил, что у него любовь?
— Конечно.
— Так вот, она его бросила. Джеральд заболел с горя, день и ночь сидел в своей норке. Вечером я чистил ему дома орешки, а утром клал их у желоба. Через три дня он сдался и поел. Шеф орал, спрашивая, какой дурак принес белке корм. Я, конечно, промолчал, у него и так на меня зуб из-за твоего дела.
— И что теперь?
— Джеральд недолго грустил, снова начал работать, а красотка вернулась.
— Его красотка?
— Не знаю. Поди разберись с этими белками! Но Джеральда я узнаю из тысячи. А ты?
— Наверное.
Санкартье снова хлопнул его по плечу, и они наконец расстались: Адамберг с сожалением смотрел, как канадец идет на посадку.
— Приедешь снова? — спросил Лалиберте, пожимая ему руку. — Я твой должник и хочу, чтобы ты вернулся посмотреть на красные листья и тропу. Проклятие снято, ходи по ней в любое время.
Лалиберте держал руку Адамберга железной хваткой. Комиссар всегда различал во взгляде суперинтенданта всего три чувства — теплоту, строгость и ярость, а теперь вот появилась этакая задумчивость, и выражение лица изменилось. Под гладью вод всегда что-то кроется, подумал он, вспомнив озеро Пинк.
— Хочешь, скажу кое-что? — продолжил Лалиберте. — Пожалуй, среди полицейских тоже должны быть романтики.
Он выпустил руку комиссара и ушел. Адамберг проводил взглядом его массивную спину. Вдалеке маячила голова Добряка Санкартье. Адамберг с радостью отщипнул бы чуточку его благожелательности, занес на карточку, вложил в бумажный медальон, сунул в ячейку и впрыснул в свою ДНК.
Семеро сотрудников отдела шли к выходу. Адамберг услышал, как его зовет Вуазне, обернулся и медленно догнал своих, неся на плече куртку сержанта.
Встань на лыжи и вперед, мечтатель.
Садись на облако, мужик.
И рули.
По-французски «violette» — дикая фиалка, нежный крошечный цветок.
Перевод Н. Рыковой.
Лалиберте по-французски означает «свобода» (La Liberté); Ладусер — «нежность» (La Douceur); Лафранс — «Франция» (La France); Луисез — «Людовик XVI» (Louis Seize). (Прим. перев.)