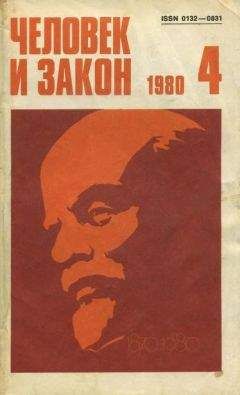— Ничего себе установочка! — Колчанов откинулся на спинку стула.
— Тут ты, Анюта, малость перегнула, — серьезно сказал Шаповалов. — Если каждый начнет волю рукам давать...
— Каждый волю рукам давать не будет. А подонков станет меньше. Затаятся. Потому знать будут — кроме профсоюзного собрания есть еще такое мощное народное средство, как зуботычина.
— Вы знаете, что Горецкий и Самолетов подрались из-за вас? — спросил Колчанов.
— Сказали уж, просветили.
— И как вы к этому относитесь?
— Положительно.
— То есть как — положительно?!
— Нравится мне, когда мужики из-за меня дерутся. Как-то... чувствуешь себя человеком. А вы? Вот вы узнали бы, что две бабы из-за вас друг дружке глаза повыцарапали — да вам бы на всю жизнь гонору хватило!
— А что, может быть. Но, к сожалению, я не сталкивался с таким положением. Теперь вот что, Анна, у них были основания драться из-за вас?
— Что-что?
— Я это... поинтересовался, грешным делом, не было ли у них оснований для такого бурного выяснения отношений.
— Это надо у них спросить. А если... Если вы имеете в виду это самое, то нет, можете спать спокойно. Ничего у меня не было ни с одним, ни с другим. У меня с Заветным было, с главным инженером. И еще будет. Если вас что-то в этом духе интересует, спрашивайте, не стесняйтесь, я все расскажу, все как есть... Лишь бы правосудие не пострадало, лишь бы вы с заданием справились.
— Вы напрасно на меня обиделись, — примирительно заговорил Колчанов. — Ей-богу, напрасно. Я задал вполне естественный вопрос — были ли у ребят основания драться... Я обязан был спросить об этом.
— Ладно, поехали дальше, — сказала Анна. — Я нечаянно. Вы уж на меня зуб не имейте,
— Поехали, — согласился Колчанов. — Скажите, как по-вашему, мог Горецкий бросить Колю на Проливе в ту ночь, когда тут у вас буран куролесил?
— А черт его знает! Я где-то читала, что каждый человек может совершить подлость, преступление, если надеется скрыть это.
— И вы тоже?!
— А я что, рыжая!
— Скажите, а в спасательных работах той ночью вы участвовали?
— А я что, рыжая! — повторила Анна и рассмеялась. — Послушайте, а вот вы, следователь, могли бы пойти на преступление? А то вы все спрашиваете, спрашиваете... Ответьте на один вопрос, только честно! — Обернувшись, Анна подмигнула Шаповалову: сейчас, дескать, мы его прощупаем.
Колчанов несколько мгновений озадаченно смотрел на Анну, выпятив губы, потом его лицо приняло снисходительное выражение, опять изменилось — теперь в нем можно было увидеть интерес.
— Нет, — сказал он твердо. — Я бы не мог пойти на преступление. Потому что всего, чего мне хочется, можно достичь честным путем, вернее, законным путем, так будет точнее.
— А если сказать еще точнее, — подхватила его мысль Анна, — то у вас всегда найдется способ обойти закон.
— Фу, — поморщился Колчанов. — Обойти закон — это значит нарушить закон. Что есть преступление? Преступление есть неумелое, опрометчивое, грубое, заметьте, психологически, нравственно, духовно грубое стремление выразить себя. На преступление идет человек, который не в силах справиться со своими желаниями, стремлениями, мечтами, да-да, и мечтами, со своими страстями. На преступление идет человек с искаженными, испорченными представлениями о достоинстве, справедливости, имеющий ошибочное представление о собственной персоне. На преступление идет человек, пренебрегающий законами, по которым живет большинство людей, полагающий, что он, в силу своего какого-то там превосходства, может нарушить эти законы... Так вот, я ни под одну из этих категорий не подхожу. Вас устраивает такой ответ?
— Значит, вы застрахованы от того, чтобы оказаться на скамье подсудимых? — спросила Анна.
— Нет, — быстро ответил Колчанов. — Не застрахован. Но это уже особый разговор. И долгий.
— Ну что, друг Михалыч, твоя очередь, — сказал Колчанов.
— Чего меня допрашивать — мой рапорт в деле.
— А знаешь, не помешает. Слог у тебя суховат... И потом, я ведь тебя знаю не очень хорошо, а мне интересно, что ты за человек и почему участковым на шестом десятке заделался...
— Как стал... Был шахтером, работал, как все приличные люди, неплохим шахтером, между прочим, был, есть чего на стенку повесить — грамоты всякие, листы похвальные... До орденов, правда, дело не дошло.
— Не горюй, Михалыч, на новом поприще получишь.
— Да бог с ними, с орденами... Нынче все больше молодых награждают, им, видать, нужнее. Ну так вот, работал я в Бошнякове, здесь же на Острове. Недалеко от Александровска. И в том Бошнякове есть одна шахта, а в той шахте одна добычная бригада.
— Какая-какая?
— Добычная. Та, которая уголек на-гора выдает. А обслуживают эту добычную бригаду тринадцать проходческих бригад. Ну, это те, которые забой готовят для добычной. В чем дело, спрашивается? А дело в условиях залегания. — Заговорив о близком, Шаповалов заволновался. — Пласты угольные там мало того, что всего полметра толщиной, но еще перекручены, смяты, разорваны, сдвинуты — не шахта, а наглядное пособие. Все, что с пластами в природе может случиться, на нашей шахте есть тому конкретный пример. Погодь, Валентин Сергеевич, не перебивай. Вызвался — слушай. Так вот, только наладимся, бывало, давать приличную добычу, только конвейерную линию отладим — бац! Кончился пласт. Оборвался. Где он? Ниже? Выше? Или в сторону нырнул? Или вообще сдвиг в породах такой, что его на сотню метров в сторону швырнуло? Ищи-свищи! А мощность пласта невелика, работаем лежа, кровля трещит, сверху наседает, сыплется, не всегда успевали технику вызволить — зажимает. Чуть зазевался — села кровля и зажала комбайн. Никакими силами не вытащишь!
— Невеселая, гляжу, работка была, а, Михалыч?
— Зато и не соскучишься. Боевая работа. Не каждому по нраву, да и по силам не каждому.
— Скажи, Михалыч, вот и работа адская, и поселок такой, что на карте районной не найдешь, и могу себе представить, как у вас там с жильем, снабжением... Что же тебя там держало?
— А черт его знает! Зарплата там приличная была, но не в ней дело. Коли б дело в зарплате было, не стали бы люди по две смены подряд уродоваться, вручную вкалывать, чуть не жизнью рискуя, комбайны из забоя выволакивать, не стали бы костры под куполами возводить.
— Костры?
— Костры, — солидно кивнул Шаповалов. — Когда обрушивается кровля и над тобой образуется яма метров на десять вверх, когда эта яма дышит и из нее вываливаются время от времени булыжники тонны по полторы-две весом, когда не знаешь, на чем там, вверху, все держится, и когда обрушится все через минуту или две... Вот тогда единственное спасение — костер. Внизу, под куполом, добровольцы костер кладут: два бревна вдоль, на них два бревна поперек, а на них опять вдоль... И выкладывается такая башня вверх до самого купола, чтобы последние бревна подперли потолок. Тут что главное — не содрогнуть купол, быстро успеть выскочить, когда видишь, что камушек дышать начинает...
— И ты тоже костры возводил?
— Костры я клал, премию мне за это отваливали, но врать не буду — не за премию работал. Не знаю, как объяснить... Тут без красивых слов и не обойдешься... Знаешь, живешь вот так, на работу ходишь, то-се, а где-то глубоко в тебе иногда чувство такое возникает, что настоящая твоя жизнь, ответственная, справедливая, не знаю, как ее еще назвать, идет где-то рядом, а ты в суете даже не касаешься ее, не замечаешь. Когда клал я костры, когда камни вокруг меня падали, будто я под обстрелом находился, казалось мне, что это моя настоящая жизнь... И сейчас вот вспоминается не плохое жилье, не худая спецовка, вспоминаются случаи, когда настоящую жизнь почувствовал. Я вот что тебе скажу — такие случаи, как костры, жизнь человека подпирают. И чем больше таких случаев на твоем счету, тем прочнее купол над тобой, прочнее твоя жизнь, тем тверже и надежнее ты на земле стоишь, и не сковырнет тебя ни злобство людское, ни беда какая.
— Ох, Михалыч, говоришь ты — перебивать не хочется! Но уж коли сам остановился, давай вернемся в твою шахту.
— Давай в шахту, я сам по ней соскучился, снится иногда. У нас что интересно — дождь в сопках пройдет, а через неделю начинает нам за шиворот капать. Мы даже с ребятами иной раз спорили — за сколько дней дождь до нас доберется. Точно угадывали. Да что дождь. Туман на сопки ляжет — и то мы чувствуем его там, на глубине.
— И однажды тебе все это надоело?
— Нет, какой надоело! Работа в шахте тяжелая, но после нее к другой трудно привыкнуть... Вот ты, Валентин Сергеевич, знаешь, как наша с тобой планета пахнет?
— Планета? Ну ты и хватил... Не нюхал я планету. Землей, наверно, пахнет, чем же еще?
— Какой землей? Черноземом? Перегноем? Мусором каким? Травами? Все это, мил человек, запахи поверхностные, посторонние, в общем-то, запахи. А вот если в шахту спуститься, о! Только там и почувствуешь. И чем глубже, тем он сильнее, чище! Не могу я тебе этот запах описать, самому надо его почувствовать... Влажный такой запах, серьезный, сравнить не с чем... Отвлечешься от работы, посидишь, тревога берет. Не поверишь — тревога берет!