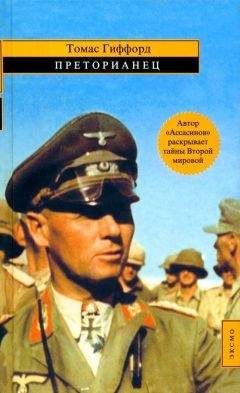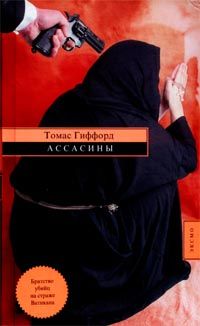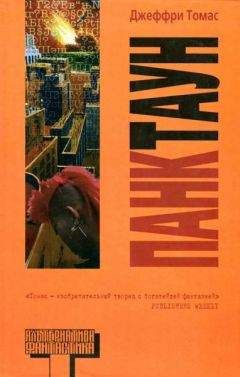— Однако, мой милый, моя английская сдержанность и самообладание почти иссякли. Ты мне нужен, Роджер. Ты понимаешь, что я имею в виду? Ты меня слушаешь, милый?
— Конечно, я понимаю. — Он накрыл ладонью ее руку, лежавшую на крахмальной белой скатерти. — Я умираю с голоду. А ты?
— Роджер, я делаю совершенно неприличное предложение. Я долго ждала. Знаю, ты ни о чем меня не просил, знаю, все, что я думала и делала, я делала по собственной воле. Но теперь ты вернулся, и пора разобраться. Да-да, я возьму палтуса и немного зеленой фасоли — мне все равно, что есть, заказывай сам, Роджер. А потом поговорим о войне, а потом ты перестанешь меня бояться и мы во всем разберемся — хорошо?
Глядя на нее, он снова, далеко не в первый раз почувствовал, что она заслуживает много большего, чем он ей давал. Спасаясь от этого чувства, он заговорил о войне. Все сейчас говорили о Тобруке.
Тобрук в конце концов пал, и Роммель захватил в нем двадцать пять тысяч пленных. Десять дней спустя союзные войска назначили место решающей битвы, которая должна была определить судьбу Египта. Место было выбрано в узком проходе в шестидесяти милях от Александрии. Проход назывался Эль-Аламейн. Линия фронта шириной в сорок миль тянулась от укреплений вокруг Каттарской впадины до моря. Здесь укрепилась 8-я армия. Солдаты обеих сторон были вымотаны месяцем непрерывных боев за Тобрук. Если присланное союзниками подкрепление не удержит яростной атаки Роммеля, Северная Африка будет потеряна. Сколько может продлиться последнее сражение, никто толком не знал.
— Только не говори, что ты опять собираешься туда.
— Нет. Для меня война окончена. Я трус, Энн. Думаю, меня не загонят туда и под угрозой расстрела.
Она хитровато улыбнулась:
— Стало быть, передо мной сломленный человек?
— Меня достаточно ломали. Больше не хочу.
— Ну что ж, я рада, что ты окончательно вернулся. Мне ненавистна мысль потерять тебя теперь. Я была слишком близка к этому. — Голос ее дрогнул. — Я думала, ты убит… Эдуард что-то такое слышал. Думала, я сойду с ума. Мне казалось, я так тебя по-настоящему и не узнала, ты никогда не открывался полностью. Тебя нелегко узнать, но теперь у нас будет время заполнить все белые пятна. Все время мира принадлежит нам, и нам нет дела до войны.
Они пообедали, а дождь все не начинался, и Годвин предложил пройтись. Они пошли вдоль набережной. Туман застилал дальний берег Темзы. Оставшийся позади «Савой» светился мутным пятном. Годвин облокотился на парапет, она остановилась рядом. Теперь, когда они оказались под открытым небом, голос ее звучал холодней. Холодней были и ее чувства.
— Почему ты мне не звонил, Роджер? Рассчитывал, что мое английское воспитание не позволит тебя тревожить? Принял как должное, что я буду терпеливо ждать гласа с небес? Ты хоть немного представлял, каково мне пришлось? Меня расспрашивают, как твои дела, а что я могу сказать? Не знаю, как у тебя дела, я тебя и в глаза не видела… Мне говорят, что видели тебя в гостях или еще где, и я не могу скрыть, что не вижусь с тобой и ничего о тебе не знаю.
Она вцепилась в перила, пачкая белые перчатки, уставившись на грязную, непроницаемую воду.
— За что ты со мной так, Роджер? Родители о тебе спрашивали: говорили, что я просто обязана пригласить тебя отдохнуть у нас в деревне, — и что я должна была им отвечать, Роджер? Что ты ведешь себя так, будто знать меня не знаешь?
— Энн, я кое-что должен тебе сказать. Давно должен был сказать, но не знал, как… и не знал, надо ли. Но теперь многое изменилось. Я обязан быть честным с тобой. Ты так чертовски долго терпела мое… мою…
— Уклончивость? Слово не хуже других. Я знала, конечно, что не безраздельно владею твоим вниманием.
Она пыталась улыбнуться и не сумела. Губы у нее дрожали.
— Мне не понравится то, что ты скажешь, да, Роджер?
Она коснулась его локтя, словно боялась упасть.
— Да, наверно, но я должен…
— О, черт! Не самое подходящее время для плохих новостей. Слишком много мне их достается в последнее время. Нет, не спрашивай, я не для того здесь, чтобы об этом говорить. И я не хотела тебя смущать… Мне нужно сесть.
Она опустилась на чугунную скамью девятнадцатого века, украшенную знаменитыми египетскими изваяниями, крылатыми и царственными. Откинулась назад, наполнив грудь густым, негодным для дыхания воздухом.
— Ладно, Роджер. Говори уж все сразу.
— Я люблю другую женщину. Я любил ее всю мою жизнь. Теперь она свободна. Тут ничего не поделаешь. От этого нет лекарства. Ничего нельзя изменить.
Она тихо плакала, держа платок у рта. Ее взгляд скользнул по его лицу и ушел в сторону.
— С тем же успехом ты мог воткнуть мне в сердце ту жуткую иглу Клеопатры. Ты должен это понимать.
— Все не так страшно. Попробуй честно взглянуть на вещи, Энн. Мы ни о чем не договаривались, ничего друг другу не обещали. Мы были добрыми друзьями, но я никогда не пытался…
— Ну конечно, как я могла забыть, что ты не пытался! Все это я сама, мои фантазии… Кто она?
— Сцилла Худ.
— О, Роджер, как это жалко! Какой же ты безнадежный, неисправимый дурак!
Она больше не плакала и запихнула в сумочку комочек батиста.
— Всем известно, что она шлюха. Она сделает тебя несчастным. Она действительно шлюха. Все знают. Конечно, тебя это беспокоит…
— Не унижайся, Энн. Ничего тебе не надо говорить.
— Думаю, тебе не нужно беспокоиться, чтобы я не унижалась. Ты сам обо мне позаботился. Я унижена рукой профессионала. Это ее мать, знаешь ли, она просто повторение своей матери, несчастный ты бестолковый дурак… Ради тебя самого тебя нельзя к ней подпускать… пожалуйста, послушай меня… Я слышала о вас с ней задолго до того, как погиб ее муж.
— Что ты говоришь?!
— Ну ты же не думаешь, что такое можно сохранить в полной тайне? Ох, какой же ты простак… но я думала, вы старые друзья, и Макс Худ ведь был твоим старым другом. Я не могла поверить, что ты так слеп, чтобы не видеть, что она такое, чем всегда была, насколько мне известно, и не могла поверить, чтобы ты, ты, железный янки Роджер Годвин, предал своего старого друга Макса Худа, героя пустыни… Скажи, Роджер, тебе случалось спать с нами обеими в один день? Перепрыгивать из ее постели в мою?.. Ох, Роджер, я действительно любила тебя… Такая уж я была неуклюжая, так просто было меня дурачить, так легко использовать?
— Энн, ничего такого не было. Все не так ужасно, все совсем не так… не было ничего настолько плохого.
— А, зато теперь есть. Ты еще узнаешь, насколько она плохая… Ты был свиньей, правда? Так вот, я еще увижу, как ты поймешь, как это плохо. Я ее назвала шлюхой, но я и сама для тебя была не больше, чем шлюха…
— Энн, ради бога! Не будь глупой — мы взрослые люди, нам было хорошо друг с другом, какой смысл выставлять все в дурном свете.
— Ты лучше уйди, Роджер, оставь меня одну… Ты был такой свиньей, а я тебя любила… Какая же я была дура… Думала, мы будем так счастливы: Роджер и Энн… Эдуард меня предупреждал, он мне про тебя говорил, предупреждал, он даже предупреждал меня насчет тебя и Сциллы Худ, а я смеялась над ним, я говорила: не будь смешным, Недди, не устраивай мелодрам… Ну почему я не поверила Неду, когда он говорил, а я твердила: ах, нет, они со Сциллой просто старые друзья, Роджер знает Макса Худа целую вечность… А Эдуард был прав, с самого начала прав…
Годвин сидел перед открытым окном, а теплый ночной бриз шелестел в листве платанов на Беркли-сквер. Годвин методически, медленно и обдуманно расправлялся с бутылкой солодового виски «Э’Драдур». Так же методично он складывал в голове клочки и обрывки собранных сведений. Сведения вдруг начали накапливаться. По мере того как виски весело заливало мозг, опустошая немыслимое множество серых клеточек, он прикидывал, не забыл ли чего-то существенного.
Первое — и последняя из приобретенных диковинок — Эдуард Коллистер, которого сестрица Энн любовно называет Недди. Каким образом Эдуард мог предостерегать Энн насчет них со Сциллой? Откуда он знал? Никто ведь не знал. Даже существо с самыми чувствительными антеннами, даже Лили Фантазиа, сама подбивавшая Годвина не упустить Энн как раз перед операцией в Беда Литториа. Никто не знал — кроме Монка. И, как видно, несчастного изможденного Эдуарда Коллистера. Как он узнал? Важно ли это? Или он это просто выдумал? Опять же зачем? И зачем рассказал Энн? Хотел ее защитить? Беда с этими вопросами. Виски плодит их еще больше.
Второе: кто-то действительно пытался его убить. Монк этим вопросом вовсе не занимался. Но до того как Годвин той ночью покинул его pied-a-terre,[45] Монк поклялся, что никто не подсылал к нему убийцу.
— В самом деле, милейший, — посмеялся он, — и думать нечего. Будь это кто-то из команды для особых поручений, вы были бы уже мертвецом и не пришлось бы нам с вами вести эту милую беседу. Вы должны мне верить, Годвин. Я не стал бы вам лгать.