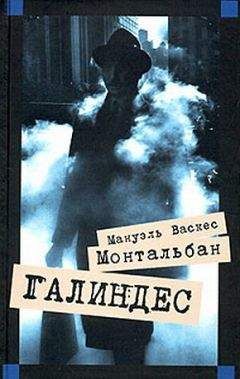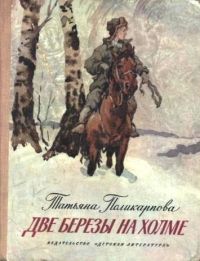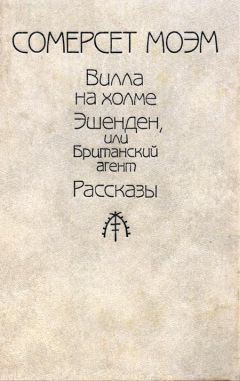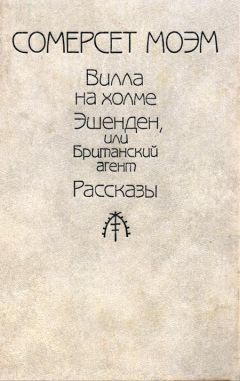– Мне нечего стыдиться. И нечего бояться.
– Выплывут на свет все ваши похождения, все истории с девицами, едва достигшими совершеннолетия, а то и с не достигшими, со студентками и с не студентками. Фонды отзовут средства, ассигнованные на вашу книгу, а вы возлагаете такие надежды, что она даст вам необходимую материальную основу, необходимую, чтобы родители жены были довольны, ведь тогда вы внесете свою часть за дом в Ньюпорте. Если же разразится скандал, посудите сами – какой университет возьмет на работу человека вашего возраста, который опубликовал всего полторы книги, причем одна из них называлась «Антикоммунизм и изотопная мораль»? Если вы не добьетесь разрешения возглавить работу над этим эпохальным монументальным трудом об истории идей в Соединенных Штатах, на вас можно поставить крест как на человеке и как на преподавателе. У вас останется лишь осанка заядлого теннисиста. Мне нравятся люди с такой фигурой – возможно, потому, что сам я всегда был похож на першерона. И мне не нравятся этакие розовато-красные, которые всегда умеют выйти сухими из воды. Мне не нравятся люди, которые пишут памфлеты, прикрываясь туманными названиями вроде «Коммунизм и изотопная мораль», после чего распутничают и находят себе денежную бабенку, и покупают себе дом в Ньюпорте или в Мидлтоне. Но что мне нравится, а что нет, не имеет никакого значения. Просто у тебя, парень, нет выбора.
Вот теперь человек с осанкой теннисиста медленно поднимается, проводя правой рукой по мрачному, усталому лицу. Он направляется к выходу, но во всех его движениях сквозит неуверенность, и, оказавшись на открытой веранде, он задумчиво останавливается, опершись о перила, устремив невидящий взгляд на мигающие вдали огни Лонг-Айленда.
– Простите, сэр, но вы, кажется, забыли оплатить счет.
Бледная официантка улыбается ему деланно-веселой профессиональной улыбкой и протягивает длинный листок бумаги – такой серый, что он кажется грязным.
– Я сейчас вернусь, и потом там остался мой приятель.
– Ваш приятель заплатил за себя.
– Простите. Я думал, он заплатит за обоих, а я потом ему верну деньги.
– Но он заплатил только за себя.
Девушка начинает проявлять нетерпение, и только когда хмурый мужчина протягивает ей кредитную карточку, профессиональная приветливость возвращается к ней; взяв карточку, она уходит внутрь ресторана, обходя грузного Робардса, который, стоя в дверях, наблюдал за этой сиеной. Так они стоят молча, в пятнадцати метрах друг от друга, пока не возвращается официантка и с напускным интересом не спрашивает, довольны ли они обедом. Ее лицо сразу становится безразличным, как только мужчины поворачиваются к ней спиной и направляются к ступеням, идущим вверх, к шоссе. Они уходят навстречу спускающемуся сумраку, который разрезают огни лимузинов, мчащихся по бостонской трассе. Приземистый человек выбирается на шоссе, приветливо улыбаясь:
– Вам сообщат номер абонентского ящика, на который вы будете пересылать копии своих писем к Мюриэл Колберт и ее ответов, а также сообщения о содержании телефонных разговоров, если вам приведется разговаривать с ней по телефону.
Приземистый мужчина садится в машину, но не приглашает профессора последовать своему примеру; потом, словно вид рычагов напомнил ему о чем-то, нажимает кнопку, и окошко опускается. И тогда он говорит застывшему от растерянности профессору:
– Я забыл предупредить, что не смогу подбросить вас назад в университет. Но здесь недалеко, метрах в ста, автобусная остановка. Если все пойдет нормально, мы с вами больше не увидимся. Если же все пойдет не так, как нам надо, мы будем с вами видеться так часто, что всю оставшуюся жизнь вы будете жалеть об этом вечере.
И стекло тут же возвращается на прежнее место, словно ледяная завеса, а Норман Рэдклифф, придя в себя, поворачивается и упругим шагом направляется к автобусной остановке, засунув руки в карманы. Разворачиваясь, недавний собеседник Нормана на мгновение выхватывает желтым светом фар его высокую фигуру. Приземистый человек, сидящий в машине, неподвижно застыл, едва заметными движениями направляя машину, уносящуюся вдаль по ночному шоссе. Неожиданно черты его лица приходят в движение, и с губ срываются слова песни. На секунду он прерывается – только для того, чтобы громко сказать ветровому стеклу:
– Ну и дерьмо же ты, Норман Рэдклифф!
И он начинает повторять нараспев – десять, двадцать раз подряд – названия книг профессора, с разными интонациями, но писклявым женским голосом: истоки моральной жизни, антикоммунизм и изотопная мораль, истоки моральной жизни, антикоммунизм и изотопная мораль… ай, Норман, я больше не могу, что ты со мной делаешь… еще, Норман, еще, еще один изотоп… больше не могу… истоки нравственности, антикоммунизм и изотопная мораль, истоки нравственности, антикоммунизм и изотопная мораль, истоки нравственности, антикоммунизм и изотопная мораль… доктор Рэдклифф, о, доктор Рэдклифф… разве он весь там поместится? А когда эта забава надоедает, мужчина останавливает машину, откидывается назад и медленно, нараспев начинает читать:
Река внутри нас, море вокруг нас,
Море к тому же граница земли, гранита,
В который бьется; заливов, в которых
Разбрасывает намеки на дни творенья —
Медузу, краба, китовый хребет;
Лиманов, где любопытный видит
Нежные водоросли и анемоны морские.
Происходит возврат утра – рваного невода,
Корзины для раков, обломка весла,
Оснастки чужих мертвецов. Море многоголосо.
Богато богами и голосами.
– А чему ты меня научишь, Норман? Чему, скажи, не своди меня с ума…
И так почти всю дорогу до Нью-Йорка он то напевает, то читает вслух стихи, то изображает молоденькую девушку, которой домогается распутный профессор. И только подъезжая к Нью-Йорку, он серьезнеет, будто на него такое впечатление производит Бронкс вдали. Но еще что-то тихо бормочет, словно внутри у него засела какая-то грязь, и, как плевок, злобно срывается у него с губ:
– Теология безопасности. Недоносок! Я тебе покажу теологию безопасности.
* * *
«Баски, загадочная, легендарная раса». Почему ты снова и снова повторяешь название той лекции, словно ничего больше не осталось в твоей разбитой голове, нет, не разбитой, хуже – превращенной в месиво? «Я благодарю генералиссимуса Рафаэля Леонидаса Трухильо за гостеприимство, которое он оказал испанским эмигрантам; вместе с ним мы будем способствовать процветанию этой страны, которой он так мудро руководит». Это или что-то в этом духе сказал ты в начале лекции. Сидящие в первых рядах зала в «Атенео Санто-Доминго» военные смотрели на тебя вежливо, но с некоторой чисто креольской настороженностью. Ты уже знал тогда: диктатор раздражен тем, люди каких профессий приехали в его страну – писатели, адвокаты, врачи, психологи, танцоры… «На кой мне весь этот сброд? Мне нужны агрономы, врачи, которые улучшат расу на границе с Гаити: я хочу, чтобы там появились светлокожие дети, больше похожие на испанцев, чем на варваров. Население вдоль границы должно быть похоже на доминиканцев, и испанцам предстоит вытеснить всех евреев, которым я разрешил поселиться в Сосуа…»
– Хесус, значит, тебя зовут Хесус Галиндес…
Ты отчетливо слышишь этот голос и понимаешь, сколь глубок твой сон. «Баски, загадочная, легендарная раса». За каждую визу – пятьдесят долларов. Пятьдесят долларов за каждого баска, за каждого производителя потомства, за образованного эмигранта, надежда которого умерла; ты с такой горечью говорил об этом своим друзьям, а они тебе ответили: «Зато мы живы, Хесус…» Тебя зовут Хесус Галиндес… Нет, не очухивается, может, мы хватили лишку? В каком смысле они хватили лишку? Повсюду запах пустоты, блевотины, словно падаешь в пустоту, которая имеет запах, беззвучный запах… что-то ударяет тебя изнутри в живот, но веки твои не хотят открываться навстречу яркому свету. В университетском городке Колумбийского университета уже смеркалось, и Эвелин пришла в ужас, когда ты сказал, что пойдешь через весь Гарлем пешком. «Я подвезу вас, ведь я на машине». – «Нет, мне хочется пройтись по Гарлему. Сегодня служат особую мессу, и мне нравится церковная служба под звуки румбы». – «Профессор, вы сошли с ума». – «Вы, янки, трусы, потому что после того, как вы расправились с индейцами, у вас всегда было тихо, и вы не знаете, что такое бомбардировка… Только те, кто приехал из Европы или с юга Рио-Гранде, знают, что такое настоящая опасность. Иногда в Колумбийском университете я встречаю Германа Арсиньегаса и погружаю его в Гарлем, в атмосферу черных и пуэрториканцев, в лавочки на 125-й улице, где продаются свечи семи цветов – чтобы просить о любви, об отмщении, об успехах на экзаменах. Где есть приворотное зелье, чтобы вернуть мужа или найти жениха, где продаются травки, с помощью которых можно усмирить грубого крикливого мужа, где продают волшебные корни, порошки или настои. А потом мы идем по плохо освещенному Гарлему, и Арсиньегас дрожит от страха, а я танцую для него на сломанных скамейках, как Фред Астер, который мне нравится больше, чем Джин Келли».