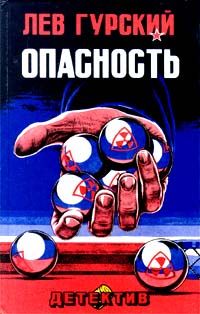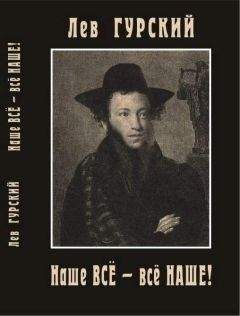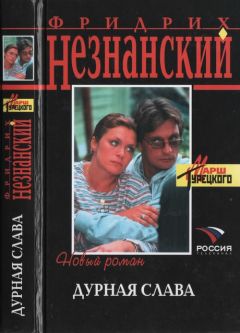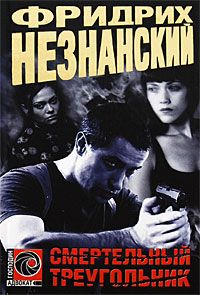– Сане-ек, Сане-ек, – проорал над моей головой очкастый сукин сын. – Быстрее, я его уложил!
По асфальту затопали башмаки. До меня донеслось пыхтение, постепенно приближающееся. Очевидно, Санек был грузноват и страдал одышкой. И он же, этот толстый Санек, оказался командиром разбойной парочки.
– Посмотри в бардачке, – все еще пыхтя, приказал он над моей головой очкарику. – А я погляжу, что у него в карманах…
«И ради этого стоило меня бить железякой по башке?» – подумал я с тоской, слыша, как очкарик копошится в салоне Я и сам бы рассказал, что у меня где лежит. В бардачке, например, у меня только ветошь, запасные дворники, полпачки сигарет и страница из «Московского листка» со статьей-статейкой-анонсом Маши Бурмистровой. Что касается карманов, то там поживы и того меньше. Всякие потрепанные бумажки – удостоверение личности, права, бумажник с несчастными ста штуками не самыми крупными купюрами… Да, еще табельный «Макаров» в кобуре под мышкой. Без патронов, правда. Вечная моя рассеянность.
Тем временем толстяк-предводитель, судя по пыхтению, наклонился надо мной и, взяв меня левой рукой за лацкан пиджака, правой стал нахально лезть мне во внутренний карман, приближаясь к заветному бумажнику. Все. Медлить дальше было опасно, к тому же момент оказался на редкость подходящим: обе руки у пыхтящего толстяка заняты, а мои обе руки, как на грех, свободны. И ноги – тем более.
Пора!
Я открыл глаза и тотчас же взял в замок обе загребущие лапы, жаждущие меня ограбить. Одновременно правая моя коленка нанесла удар толстяку под челюсть. Зубы лязгнули; толстый грабитель еще не успел толком понять, каким образом полутруп так оперативно ожил, а уже грохнулся толстым затылком об асфальт. И, кажется, приложился крепенько, поскольку мгновенно закатил глазки и оставил все попытки проверить содержимое моих карманов. Услышав стук, из моей машины выглянул очкарик-провокатор. В одной руке у него были дворники, в другой – сигареты, и, кажется, этот тип еще не решил, что же ему украсть в первую очередь.
Самое смешное: сперва он даже не сообразил, что покойник, которого он так классно приложил, – ожил. Очкарик решил, будто его толстому другу просто стало плохо – солнечный удар или там гипертония. Он оставил в салоне свои трофеи, бросился к поверженному Саньку и стал лупить того по толстым щекам, стараясь привести в чувство. Некоторое время я с чувством глубокого удовлетворения лежа наблюдал за экзекуцией, однако вскоре мне это надоело. Я выбрал момент, когда тощий, обтянутый джинсами зад очкарика оказался на самом удобном расстоянии от моей ноги, мысленно прочертил траекторию пинка и привел свой замысел в исполнение. Пуск был произведен почти с той же основательностью, как на Байконуре или в Плесецке. Сначала очкарик, получив приличное ускорение, свечкой рванулся ввысь, потом сила тяжести вступила в свои права – и человек-ракета по крутой траектории с шумом рванулся вниз и совершил жесткую посадку на обочине шоссе.
Вот и все, подумал я, вставая и хорошенько отряхиваясь. Загривок здорово ныл, но это, согласитесь, было меньшим из зол. Я внимательно присмотрелся к очкастому провокатору: по-моему, он, как и его толстый руководитель, был в глубокой отключке. Видимо, при падении приложился головенкой. Очки провокатора валялись от него метрах в трех и совсем не пострадали. Я подобрал окуляры, нацепил их на нос хозяину и мысленно посетовал на печальную судьбу двух неудачливых громил. Но сами виноваты: нечего поднимать свои лапы на святые законы шоферской этики. Хотели бензина – я бы с ними поделился. Но эти стервецы слишком много захотели. А кто много хочет, с того много и спросится…
Я прогулялся до пустующей иномарки двух бандюг и пошарил в их собственном бардачке. Ничего, кроме засаленного блокнота. Двумя пальчиками я взял этот единственный трофей, вытащил ключ зажигания и проследовал обратно к своему «жигулю». Пока я гулял туда-сюда, обеденный перерыв на шоссе, видимо, кончился. Проехали несколько грузовиков, пара легковушек, но оба громилы – толстый и тонкий – так хорошо лежали в невысоких придорожных кустиках, что были ну абсолютно не видны. Пусть загорают, погода хорошая, не простудятся.
Я швырнул трофейный блокнот себе в бардачок, туда же засунул чуть было не уворованные сигареты и дворники, ключи от иномарки бросил на сиденье и поехал своим путем, в центр. Что мне делать с чужим блокнотом, я еще не сообразил, зато точно знал, что я сейчас сделаю с ключами от иномарки: проехав километра два, я вышвырнул их из окна. Пусть выбираются сами. После солнечного удара и космического полета толстяк и очкастый сегодня уже не способны продолжать свои грабежи. А к завтрашнему дню, глядишь, – не только очухаются, но и одумаются. Поймут, что разбойничать грешно. И все такое.
Примерно так я рассуждал, пока вел свой «жигуль» по шоссе, потом по проспекту, а потом по сложному лабиринту московских улиц. Кто сказал, что все дороги ведут в Рим? Ошибаетесь: все дороги ведут к нам, на Лубянку (бывш. Лубянку). Там я к трем часам пополудни и очутился, перехватив по дороге разве что пару гамбургеров и стаканчик чего-то пузырящегося, с запахом апельсина.
Народа в Управлении в эти часы было на редкость мало, даже Филиков куда-то испарился. Из всех знакомых в нашем коридоре мне попался только тихий Потанин, который тихо пискнул «Здра…», мышкой пробежал в свой кабинет номер 13 и закрылся там.
Сиеста, подумал я. Полный штиль. Все отдыхают. А я, простите, чем хуже других? Возьму и сделаю перерыв на пару часиков. Сейчас позвоню Ленке и скажу, что у меня тайм-аут и я желаю к ней приехать. Ленка, конечно, скажет недовольным тоном, что о таких вещах надо предупреждать заранее, что у нее дома нечего жрать, что ей надо заниматься и вечерний институт ничем не лучше дневного, наоборот, стипендию не платят. «Так что, мне не приезжать?» – тогда спрошу я и Ленка скажет, что ладно, кажется, есть хлеб, какие-то консервы и полбутылки ликера, который у нас остался с прошлого раза… И что, в принципе, она не будет так уж сильно возражать, если Максим Лаптев заглянет на четверть часа.
Я вошел в свой кабинет и набрал Ленкин номер. Черт, занято. Я набрал вторично. Тот же результат. Наверное, она, как всегда, болтает со Светланой. Это ее лучшая подруга, у которой есть идефикс – нас с Ленкой поженить. Самое главное, что я-то не возражаю…
Я снова набрал Ленкин номер. По-прежнему занято. Хорошо, тогда сделаем еще одно служебное дело. Я полистал свой настольный справочник, нашел с десяток телефонов «Московского листка». Отдел науки, где, по идее, должна сидеть Мария Бурмистрова, – длинные гудки. Отдел культуры – длинные гудки. Отдел информации – то же самое. Должно быть, в «Московском листке» тоже была сиеста и полное безлюдье. Отчаявшись, я набрал последний оставшийся номер – главного редактора, господина Боровицкого Станислава Леонидовича.
Трубку неожиданно подняли.
– Боровицкий, – сказал невыразительный голос. Я поздоровался, представился и назвал ведомство, в котором работаю.
– А-а, ГБ… – все так же безо всякого выражения протянул голос Боровицкого. – Вы-то что от нас сегодня хотите?
– Только справочку, – предупредительно сказал я. – Мы хотим узнать, когда в вашей газете выйдет первый очерк Марии Бурмистровой из цикла «Русский атом».
На другом конце трубки повисло молчание. Мне даже показалось, что связь прервалась.
– Алло! – произнес я в трубку. – Алло! Станислав Леонидович…
– Слышу, – невыразительным тоном проговорил Боровицкий. Мне почудилось вдруг, что там, на другом конце провода что-то булькает.
– Так мы хотим узнать, – терпеливо повторил я, – когда…
– Никогда, – вяло и как-то буднично произнес Боровицкий. – Никогда не выйдет. Маша умерла.
РЕТРОСПЕКТИВА-2
12 октября 1921 года
Берлин
Заскрипели половицы в коридоре, все ближе, ближе. Наконец, в дверь деликатно постучали.
Отто отложил перо, досадливо взглянул на недописанную страницу, потом со вздохом сказал:
– Да-да, фрау Бюхнер! Заходите.
Фрау Бюхнер осторожно приоткрыла дверь, просунула голову и, с почтением посмотрев на рабочий стол, заставленный пробирками, прошептала:
– Герр профессор, я иду на рынок…
– Ну, так в чем же дело? – нетерпеливо спросил Отто, искоса поглядывая на свой наполовину исписанный листок. Темно-синяя клякса, слетевшая с кончика пера, угодила прямо в середину написанной строки. Клякса напоминала голову сэра Вильяма Рамзая в профиль: аристократический нос, надменно поджатые губы, бетховенская копна седых волос. Сэр Вильям всегда называл его «мой мальчик». «Мой мальчик, ты опять разбил спектральную трубку? – Да, сэр, но университетский стеклодув… – Ладно, не огорчайся. Стекло бьется к удаче. Завтра повторим опыт». Отто аккуратно промокнул кляксу, отчего шевелюра сэра Вильяма сделалась еще более пышной. «Ну вот я и не мальчик, – подумал Отто. – Мне сорок два года, я ординарный профессор Берлинского университета… И что же?»