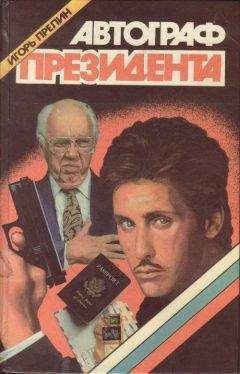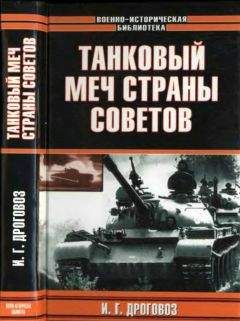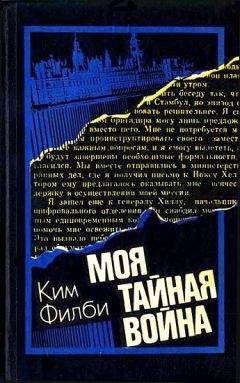Я слушал его, не перебивая.
— В марте недовыполнил я план по арестам, и начальник управления на совещании обвинил меня в недостатке большевистской бдительности. А еще сказал, что я своей подозрительной беспечностью играю на руку врагам народа! Вы знаете, что в те времена могли означать такие обвинения?
Я знал. Варианты последствий могли быть различными, но цель была одна: превратить таких, как Семенкин, в послушных исполнителей злой воли!
— И вот, когда я в апреле опять недовыполнил план, Сырокваш заявил мне, что если я не арестую хотя бы одного из запланированных врагов народа, то буду арестован вместо него!
Семенкин замолк и опустил голову.
— И вы испугались? — сделал я казавшийся мне очевидным вывод, догадываясь, что последовало за этой угрозой.
— Да не за себя я испугался! — резко вскинул голову Семенкин. — Вот погиб бы я на фронте, и дети бы мои были детьми героя! А тогда объявили бы меня врагом парода, и всю жизнь над моими близкими висело бы это проклятие! Вот чего я испугался!
Из-за дома опять появился его внук. Но не успел он позвать Семенкина к столу, как тот опередил его:
— Начинайте обедать без меня. Скажи бабуле, как закончу разговор, так и приду.
— И как же вы поступили? — спросил я, когда малыш снова скрылся за домом.
— А так и поступил! — еле слышно ответил Семенкин. — Арестовал недостающее количество «врагов народа» и отправил их в область! Конечно, не кого попало, — поправился он, — на каждого из арестованных были различные сигналы, попросту говоря, доносы, большей частью анонимные, но я-то обязан был сначала все проверить, а уж потом арестовывать, кто этого заслуживал!..
Он как-то заискивающе глянул на меня и, словно пытаясь спустя почти четверть века найти оправдание своим действиям, пояснил:
— Но времени на это у меня не было, и я решил: в области опытные следователи, они допросят свидетелей и разберутся, кого посадить, а кого оправдать за недоказанностью преступления…
Он снова замолчал.
Я не торопил его, будучи уверен, что на этот раз он не сможет прервать свой рассказ, пока не исповедается до конца.
— Весь май я ждал, — снова заговорил Семенкин, — что хоть кто-нибудь из них вернется домой, да так и не дождался. А потом я поехал в управление и узнал, что у всех выбили признания, а затем расстреляли… Так я загубил этих людей!
Голос Семенкина задрожал, и он отвернулся.
Дав ему немного успокоиться, я спросил:
— И чем же все это кончилось?
Он ответил не сразу. Какое-то время он смотрел себе под ноги, шмыгал носом, вздыхал, потом наконец посмотрел на меня выцветшими глазами и снова заговорил:
— Вот после этой истории и приехал ко мне с проверкой ваш отец. Пробыл он у меня в районе три дня, изучил все дела, встретился с кем надо и понял, конечно, что все эти «агенты фашизма» — сплошная липа… В общем, устроил он мне ужасный разнос, отстранил от оперативной работы и велел вместе с ним ехать в управление. Мне бы обидеться на него или испугаться, — вымученно улыбнулся Семенкин, — а я, не поверите, даже обрадовался, что не придется больше заниматься этим грязным делом…
— И вы вместе с ним поехали? — уточнил я.
— Да, — кивнул головой Семенкин. — Приехали мы в управление, вот тогда он и беседовал с женой этого самого Бондаренко, а потом завел он меня к начальнику управления, обрисовал все мои «достижения» в борьбе с контрреволюционным элементом и сообщил о своем решении…
— И как к этому отнесся Сырокваш? — спросил я.
— Его аж передернуло всего, — Семенкин повел плечами, словно изображая, как передернуло Сырокваша, — потому как я исключительно выполнял его указания. Но отменять решение не стал: Вдовин-то был человеком авторитетным, заслуженным, не ему чета… В общем, приказали мне сдать дела и возвратиться для получения нового назначения. На том беседа и закончилась.
Завершив свою исповедь, Семенкин облегченно вздохнул и достал папиросы. Пока он прикуривал, я сидел и думал, как бы поделикатнее получить у него дополнительные сведения об отце, чтобы он не догадался, что Иван Вдовин по странному стечению обстоятельств тоже стал объектом нашего расследования.
Не придумав ничего путного, я задал ему нейтральный вопрос:
— И что же было дальше?
— А ничего, — пожал плечами Семенкин. — Когда я вернулся, вашего отца уже не было. Вызвали его в Москву. Уехал — и все. Говорили, месяца через два погиб где-то при выполнении специального задания, а где и какого, спрашивать было не принято.
После того как Семенкин исповедался, можно было верить: ничего другого о моем отце он не знал. А то, что знал, было мне уже известно.
— А вы? — задал я очередной вопрос.
— А что я? — усмехнулся Семенкин. — Меня перевели в хозяйственное отделение, там я и работал, пока не уволили.
Он замолчал, и наступила тишина. Слышно было только, как за домом повизгивала от восторга собака, с которой, видимо, забавлялся внук Семенкина, да в сарае хрюкали поросята.
Я сидел и размышлял над судьбой Семенкина. Все в ней оказалось не так просто, как думалось до нашей встречи.
Рассказанная им история не вписывалась в сложившуюся в моем сознании схему деления общества тех лет на палачей и жертв, кое-что в ней оставалось вне моего понимания. И действительно, как случилось, что ему в одно и то же время довелось быть и палачом, и жертвой? Кем он был сначала и кем потом? Или сразу тем и другим одновременно?
Семенкин стал палачом, потому что уже был жертвой, заложником системы, безжалостно превратившей его в бездумного «винтика» и заставившей слепо служить ей, выполнять самые бесчеловечные приказы.
Став палачом, он снова превратился в жертву, как ни дико это звучит! И только ли он один? Таких были тысячи и тысячи!
А всему виной годами насаждавшаяся атмосфера страха. Кто помнит атмосферу тех лет, поймет таких, как он, хотя, может быть, и не простит никогда!
Так, значит, всему виной страх? Каким же он должен быть?
И мне захотелось задать ему еще один вопрос.
— И все-таки никак не пойму, — нарушил я затянувшуюся паузу, — как вы могли тогда смалодушничать и взять, как говорится, грех на душу, а потом храбро воевать на фронте?
— Так то фронт! — воскликнул Семенкин. — Я вот, считайте, всю войну в полковой разведке прослужил, десятки раз в тыл к немцам ходил, два ордена Славы имею, до Восточной Пруссии дошел, руку там оставил! В сорок втором в партии меня восстановили, под Сталинградом! Всякое было, но на войне страх другой, меня от него в жар бросало!.. А тогда, в этом проклятом тридцать седьмом, страх был холодный, липкий какой-то, мне от него самому на себя противно смотреть было!
Семенкин прервал свой взволнованный монолог, помолчал немного, потом очень тихо сказал:
— Я, может, всю войну свою вину перед теми людьми замаливал, а только когда в госпитале лежал уже после войны, понял, что никакие военные подвиги мою вину не искупят!.. Так и жил с ней все эти годы!
Он сказал это так искренне, что я готов был даже посочувствовать ему. Имел ли он право на сочувствие? Заслуживал ли снисхождения? Скажу честно, я не мог сам себе ответить на эти вопросы.
Но Семенкин, похоже; и не рассчитывал на мое участие. Он как-то виновато улыбнулся, стряхнул пепел с папиросы и добавил:
— Поговорил вот с вами, выговорился, может, впервые в жизни, даже как-то легче стало.
Пора было заканчивать нашу беседу. Мне оставалось выяснить последний вопрос:
— Кто мог бы подтвердить ваши слова?
— Сырокваш мог бы, да кое-кто из его ближайших приспешников. Только их еще в тридцать девятом всех к стенке поставили…
Семенкин задумался на мгновение, потом решительно сказал:
— А про Бондаренко вы у Котлячкова спросите, он тогда у нас начальником учетно-архивного отделения был. Думаю, он все знает: слухи-то от него как раз исходили…
Допрашивать Семенкина Осипов не стая. Вместо этого он попросил меня составить справку по результатам беседы с ним и приобщил ее к материалам проверки заявления Анны Тимофеевны Бондаренко.
Зато Котлячкова он вызвал на допрос сразу.
Я присутствовал на этом допросе и вел протокол.
Перед нами на самом краешке стула уселся низенький, худосочный старичок, виновато моргавший слезящимися глазами и все время покашливавший. При этом он прикрывал рот маленькой ладошкой и отворачивался в сторону, словно боялся инфицировать нас той страшной болезнью, которая поразила органы государственной безопасности в тридцатые годы.
Осипов задал первый вопрос, я записал его в протокол и теперь ждал ответа Котлячкова.
Но тот, судя по всему, не торопился отвечать. Он по-прежнему моргал, покашливал, ерзал на стуле и смотрел на нас преданным взглядом.
Пауза явно затянулась, и Осипов решил поторопить свидетеля: